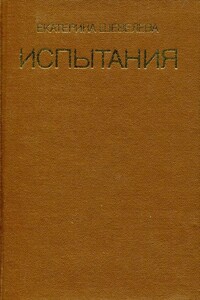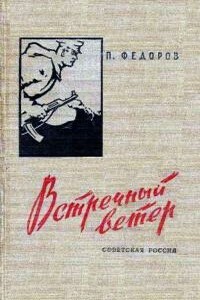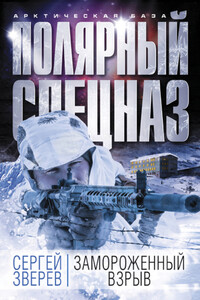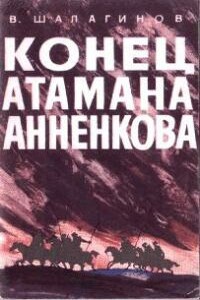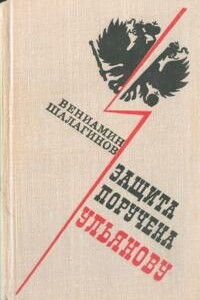1
— Подсудимая Батышева!
Старое, без морщин, розовое лицо председателя любезно и вкрадчиво.
— Что бы вы хотели сказать суду в последнем слове?
— Здесь идет суд?
Насмешливое, наружно беспечное недоумение. Тронув у колена полу грубого арестантского халата, подсудимая делает едва приметное церемонное приседание.
— Поздравляю, господин председатель! Вы так и не поняли, что тут происходит.
— Не смейте паясничать, подсудимая! Законы империи, попранные большевиками и вновь призванные к жизни волею верховного правителя, требуют вашей смерти. Законы и прокурор. Вам было бы достойней склонить голову. Просите!
— В этом городе у меня другая задача, господин председатель.
— Взываю к вашему благоразумию.
— Что ж, тогда прошу: обретите чувство трезвости. И не перебивайте. Ваша песенка спета, председатель! Этого хочет история. И не вы, а я, я здесь судья! Я предоставляю вам последнее слово! И вам, господин прокурор!
— Извините, мадам, но...
Пальцы председателя тянутся к колокольчику.
— Мадам — не то обращение. Поберегите его для дамы, что продает вам вечерних девочек.
— Вы сказали...
— Я — ваше возмездие! Это я сказала!
Любезное, без морщин, розовое лицо становится еще любезнее. Председатель жмурится, делает головой с боку на бок, как бы определяя наиболее удобную позицию для любования, и поднимает руку с колокольчиком.
Немой знак.
Из шеренги черных гусар, что недвижимо стоят за спинами судей с оголенными кривыми шашками, в белых кавказских башлыках за плечами и в белых же портупеях, отделяется крайний слева и, с треском вогнав шашку в ножны, щелкает каблуками: он ждет приказания.
Рука с колокольчиком замирает.
— Впрочем...
Председатель возвращает колокольчик на стол: команда отменена. Гусар обнажает клинок и встает в шеренгу.
— Прокурор Мышецкий! — Голова председателя никнет под тяжестью почтительности и внимания. — Благоволите заключить, господин прокурор, по поводу беспрецедентной выходки подсудимой.
Слегка присыпанный снегом седины, Мышецкий поднимает над столиком щегольски подхваченную крутую грудь, золотого Георгия, золотые погоны, гроздь аксельбантов.
— Честь имею, господа судьи, — говорит он, — предъявить вашему вниманию нижеследующее резюме. Подсудимая заслуживает изгнания из зала суда как лицо, презревшее не только формы, но и дух судебного обряда. Поскольку, однако, задачей военно-полевого присутствия остается лишь выслушать последнее слово ее однодельца, полагал бы возможным оставить ее в зале. Надеюсь при этом, что выпад подсудимой будет брошен на весы справедливости, как еще одно свидетельство ее беспредельной враждебности всему, что так дорого истинно русскому сердцу.
Белые судят красных.
Город, где это происходит, совсем мал, но пишется громко — Городища. Превосходная степень, да еще и во множественном числе. На деле же это два рабочих поселка, по одну и по другую сторону железнодорожной линии: Деповской и Порт-Артур. В Деповском восемь коротеньких улиц, в Порт-Артуре — четыре. Знают эти улицы и зовут по номерам, как в Нью-Йорке: 1-я, 2-я, 3-я. На том конце, что смотрит на запад, — пустырь, море седой полыни, едкое курево свалочных костров и, наконец, воинский пункт: голые, без абажуров электрические лампочки, жидкая их позолоть на дощатой платформе. За платформой — казармы, плац, стрельбище. На восточном же конце — лесная грива. Тут, в тихом, темном кедраче, в соснах прячет свой золотой крест старенький бодренький скиток, с песочком у крыльца, с дорогими колоколами, с ликами искусного старого письма. Город то и дело мешается с деревней. Желтые станционные постройки, паровозное депо, телеграф, электростанция, карьер, шатры кирпичного завода, гудок, толпы мастеровщины — все это, конечно, город. Конторский служитель в пенсне, соломенная шляпа, пудель, трость, бородка буланже, клуб общества приказчиков с афишей «Сила женских чар», краснокаменная гимназия, книжная лавка — и это город. Но вот с угора к насыпи сбегают в беспорядке совсем деревенские избенки, в кружавчиках, машут колодезными журавлями. На пруду за семафором гулко бьют бабьи вальки, квакают лягушки. У плетней, у заборов ютится стоялый дух прелого навоза, пригретой на солнышке лебеды, помоев, а когда светило никнет долу, на главной, четвертой улице змеится по толстой пыли длинный пастуший бич, и нестройно, обиженно ревут коровы.