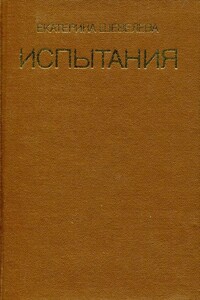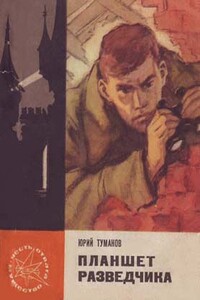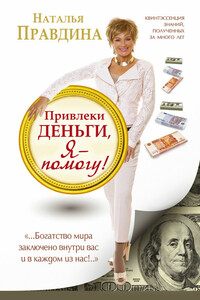Когда-то эта деревня называлась Ужпялькяй.
Тихо и размеренно течет жизнь ужпялькяйцев. Жмется она к полевым камням, перелескам, склонам, останавливается у чистых, как глаза, озерков, речек, пойменных лугов и напоминает поле, истоптанное тысячу раз вдоль и поперек. Ужпялькяйцы иначе себя и представить не могут, кроме как на фоне этих лугов, изб, дорог, лесов и пригорков. С деревьями, камнями, хозяйственной утварью, скотиной здесь сжились, как с родней, как с лицами, которые то и дело мелькают перед глазами, званые и незваные.
Емкая и устойчивая память у ужпялькяйцев — в нее глубоко врезаются малейшие детали и жесты. Имена и жизни мертвых здесь беспрерывно повторяются, откликаются из самых дальних далей, как эхо, волнами перекатываются друг через друга. Здесь вечно кто-то стоит в карауле у капища исчезающих поколений.
Говорят ужпялькяйцы так, словно удивляются и никак не могут надивиться всему вокруг — не только событиям, которые постороннему кажутся не столь уж важными, но и другим людям, самим себе, особенно времени, которое пролетает в один миг, как ветер, — просвистел, и все унес с собой. Каждый божий день они всюду обнаруживают маленькие перемены. Жадные и пытливые глаза ужпялькяйцев только их и ищут. Таков, например, Константас Даукинтис, который каждый свой рассказ начинает удивленными возгласами: ты только подумай… ишь ты… скажи-ка… так вот какие! Константас поднимет вверх свой бесконечно удивленный, осторожный палец и хмурит мохнатые брови, еще не зная, что скажет, чему надо удивляться, и вообще, стоит ли удивляться тому, что он расскажет. От слов этих перед ним будто бездны разверзаются.
Хороша и сама эта деревня, и ее окрестности, но солнце брызнет еще не скоро, но когда оно брызнет, высокие и хрупкие его мосты взметнутся над горами, реками и крутосклонами, обвеваемыми теплыми ветрами. Теперь же осень, пасмурная, промозглая, с деревьев слетают листья, с ветвей струится влага, и журавли уже улетели в теплые края. Их далекое курлыканье больше не тревожит селян по ночам. Проснувшись в кромешной тьме, они слышат, как в хлевах мечется скотина, шумит дождь, стонет ветер, — и может, в душе радуются, что в такую пору никто не придет к ним в дом, не отыщет во мраке дверей, а если и отыщет, то ночные гости долго будут шарить в поисках защелки, и хозяева еще успеют попрятаться. Лишь глаза всматриваются в темноту, лишь уши прислушиваются. Всюду осторожные, как бы крадущиеся звуки. Поди различи — где шорох ветра, где шум дождя, где шаги человека? Иной так всю ночь и сидит прислушиваясь. Ждет, бдит.
Мы здесь задержимся надолго. Надо внимательно всмотреться в каждый предмет, в каждое лицо, иначе мы здесь ничего не увидим и ничего не поймем. Многое здесь, в Ужпялькяй, неуловимо, как солнечные блики на воде или листьях, многое к нам здесь приблизится, увяжется за нами, как ребенок, прищурившийся от света, и не поймешь, радуется он или страдает.
Вот он стоит весь на виду: оборванный, с исцарапанными коленками, трет грязной ручонкой глаза. Может, он примчался к кому-нибудь навстречу, но не нашел того, кого искал, может, торчал где-нибудь под навесом, что-нибудь мастерил или рыл лунки — видите, какие у него коленки; может, сидел в песке на тропинке и ждал, когда вернется отец. Он всегда ждет возвращения отца и, услышав голоса на большаке, там, где чернеют ракиты с обвислыми ветками, где гумно, студеная вода, трясины, мчится сломя голову, чтобы поскорее его встретить. Да будет он первым нашим поводырем.
Я так и думал — он ведет нас к усадьбе Криступаса Даукинтаса.
Старые, истертые камни лестницы, на них все время что-то забивают, особенно на том, крайнем, с плоским верхом. То Юзукас, сын Криступаса, на нем выпрямляет гвоздь, то дядя Константас поправляет цепь для коровы.
В сторонке, на доске сидит старая Даукинтене. Отекшее, дряблое лицо, глаза круглые, слезящиеся. Поднимет руку, уберет под клетчатый платок белые, как пакля, волосы, причмокнет губами, крепко сожмет их и снова смотрит, как трудятся сын и внучек. Края губ у нее подрагивают — видать, хочет что-то сказать, но не отваживается, потому что частенько ее ругают за то, что всюду нос сует. По той же причине и в глазах ее, и в слабом, срывающемся голосе нетрудно уловить жалобу на свою судьбу.
Зато когда, подобрав под себя ногу, тут орудует внучек, старуха говорит и говорит, словно хочет наверстать долгие часы молчания. Говорит и все время поправляет под подбородком узел платка. Но мальчику болтать с ней некогда — он знай стучит себе молотком. Потрогает шляпку гвоздя — ой, горячо, нюхнет — пахнет серой, снова хватает молоток и снова стучит. «Пальцы не отбей», — говорит старая. И еще она говорит, чтобы он на земле не сидел — схватишь, мол, воспаление, все говорит и говорит, но кто ее услышит, когда ветер шумит и клены во дворе шелестят. Деревья, ее деревья, осиротевший, стынущий у северной стороны дома сад, уже голый, без листвы, качающиеся на ветру былинки и стебли травы, ульи с подгнившими боками, яблони, которые она когда-то обвязывала… И клетушка, что напротив, в нескольких шагах от избы, с потрескавшимися от жары стенами, осевшая в землю, столетняя, с крышей, заросшей зеленым мхом, с жерновом у дверей, с прогнившей ступой в подклети, с серыми дверцами и оконцем. Старуха таращит глаза на клетушку, косится и на деревья в саду, на ригу с высоким сводом, на избу дочери Тякле Визгирдене у самого сосняка, но больше всего ее заботит внучек — поел ли, не побила ли его мачеха. О чем Юзукаса ни спроси, он всегда отвечает неохотно — сыт, все у него есть, ничего не надо, только не мешайте стукать по гвоздю.