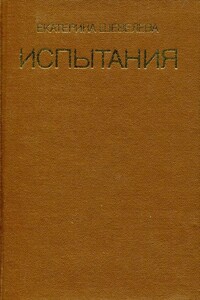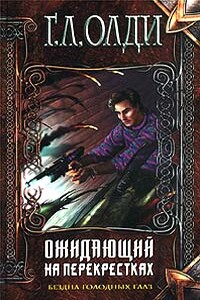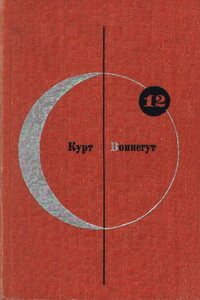Пионерский лагерь — вот знак моего детства.
С лагеря и начнем.
Ни одно слово не живет само по себе — но лишь в сочетании с другими, названными и не названными. Мы говорим «лагерь» — и мрачные призраки обступают это слово со всех сторон, и толпятся, и машут черными крыльями. Но мы говорим «лагерь» и добавляем «пионерский», и это действует, как крестное знамение. Призраки убираются к себе в преисподнюю, и звучит горн, и бьет барабан, веселые игры, футбол-волейбол, река и лес, ягодки-цветочки…
Но у каждого, как бы ни сложилась его жизнь, есть своя лагерная тема — да не прозвучат мои слова кощунственно, да не оскорбят они ничьих страданий. У меня же и название совпадает — что делать, так уж вышло, не моя вина…
Высокий зеленый сетчатый забор. Территория. Сегодня я выйду за ее пределы не как нарушитель и трусливый беглец, а как свободный сын своей свободной мамы. Свою свободную маму я буду держать за руку, свободную от моего чемодана, буду нервным фальцетом рассказывать ей веселые лагерные истории, и мама будет гладить меня по головке и радостными восклицаниями перемежать мой слюнявый визг, отвечая не мне, а своим умильным мыслям, что вот какой у нее хороший и умный сын и как все вообще хорошо, спокойно и гладко. Я расскажу ей, как я играл в футбол и забил два красивых гола, какое хорошее дно в реке, как я здорово врезал вчера Самойлову и как в последнюю ночь мы издевались над спящими. И моя мама, прекрасно знающая, что я никогда не играю в футбол, не дерусь и не плаваю, что если кто-то и издевался, то уж точно не я, моя прекрасная мама, которую я люблю больше всего на свете, будет радостно мне поддакивать и гладить меня по головке, с привычной готовностью отметая суть происходящего.
Мои полуистерические рассказы не преследуют тщеславных целей. Просто я не хочу огорчать свою маму, она так старалась, доставая путевку на мою ежегодную каторгу. «В Москве пыль и такая жара, а там такой замечательный воздух!» Она меня любит, родная и добрая, и вот приехала раньше других и уводит меня все дальше и дальше от страшной ограды, а впереди за узкой полоской леса уже слышна станция, и там мороженое, толпа, электричка, живые отдельные нормальные люди, и никто из них, чужих, ничего мне там не прикажет, а свои — вот они, рядом, гладят меня и любят, и не меньше других, и не так, как других, а больше всего на свете! Разве я мог расстроить ее? Я давно включился в эту игру, мне и в голову не могло прийти нарушить ее условия.
Кончалась учеба, все вокруг расслаблялись, ныряли в каникулы, как в прохладную воду плеса, а я с содроганием ждал того неизбежного дня, когда мама однажды придет с работы и голосом слишком радостным, слишком праздничным, слишком взволнованным, как если бы в доме, кроме нас, был еще десяток посторонних людей… «Ну, Сашенька, пляши, — скажет она, делая ударение на „я“, — удалось достать тебе путевку!» Она будет смотреть мне прямо в глаза, и я не брошусь ей в ноги, не забьюсь в истерике, не сбегу из дому. Мутное море слез, которым наполнится моя душа, выпустит на поверхность несколько пузырей, они лопнут бесшумно, не оставив никакого следа. «Спасибо, хорошо, спасибо…»
Конечно, мама немного волнуется, но в этом волнении нет страха неудачи, это волнение профессионала, благородный тревожный настрой перед сотым спектаклем. Она настолько во мне уверена, что может позволить себе даже некоторый риск. «Ты что, недоволен? — спрашивает она. — Если ты недоволен, скажи, я тут же отдам путевку. У меня ее с руками оторвут. Все дети счастливы уехать из города, здесь такая пыль, а там такой воздух, река, лес, питание…» — «Нет-нет, доволен…» И я выбегаю на улицу, потому что силы мои на исходе.
Мы живем в отдельном собственном доме, «в особняке», говорят мои родичи, и я думаю, что «особняк» как раз и означает собственный. Наш собственный дом собран из телеграфных столбов, горбылей, желтых и серых листов фанеры с надписями «карачаровская база» и голубых листов алюминия с пунктирными самолетными номерами. Прежний наш довоенный дом растащили весь на дрова, а теперешний знает лишь два состояния: он или ремонтируется, или ожидает ремонта. И все же мы здесь хозяева, моя мама, моя тетя, мой дядя (мой двор, моя дверь, мой стол — замечательные сочетания!). У нас свои печи в комнатах, свой сортир во дворе, своя собака в будке, своя картошка на огороде. А вокруг стоят бараки, где живут несчастные люди, у которых нет почти ничего своего. И нам завидуют, и нас не любят. И я их понимаю. Не могу сказать, что я им сочувствую, но понимаю. Три года, два военных и послевоенный, мы тоже жили в бараке. Три года в маленькой комнатке, стоявшей навытяжку в общем строю, комната справа, комната слева, бесконечный ряд комнат напротив. У каждой двери помойное ведро. Но самое страшное — уборная. Все лето я обычно ходил босиком и запомнил навсегда то близкое к обмороку чувство омерзения, когда сквозь босые пальцы ног мягко продавливается холодная жижа, сплошь покрывающая чернью цементный пол…
И вот теперь у нас особняк снова, «как до войны». Только нет нашей мебели, растащенной соседями, нет фруктовых деревьев, спиленных под корень, нет верной овчарки, подохшей с голоду, и нет моего отца, погибшего в сорок втором.