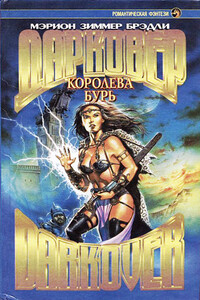66-й сонет В. Шекспира, как самый известный и наиболее читаемый. И есть прекрасный перевод Пастернака, простой, мужественный:
Измучась всем, я умереть хочу.
Тоска смотреть, как мается бедняк,
И как шутя живется палачу[1], И доверять, и попадать впросак.
……………………………………………………….
Измучась всем, не стал бы жить и дня.
Да другу трудно будет без меня.
Проще бы разве что промолчать. Маршак же сказал следующее:
Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж
Достоинство, что просит подаянье,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеяньи,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор…
И еще столько же пустопорожних, не очень грамотных строчек…
И совершенству ложный приговор. Что значит ложный — несправедливый, что ли? Но разве может быть справедливый приговор совершенству?
И неуместной почести позор. Надо очень хотеть, чтобы откопать смысл этой строчки, кроме прочего еще и безграмотной (мастерство, мастерство, техника, техника!), потому что родительный падеж здесь звучит как винительный: неуместный позор почести.
Безликость, бесчувственность, безударность, пустое формальное стихосложение — вот что такое мастерство Маршака. У Пастернака даже рифмы — только мужские, подчеркивающие простоту и скупость (в оригинале, кстати, тоже мужские). А у Маршака — хоть через одну, да женские, все-таки и тут побольше расплывчатости. Он часто жаловался на краткость английской строки по сравнению с русской. (С какой русской? С какой-то аналогичной.) Этим он оправдывал свое многосложие, растягивание строки в переводе. Так, женская рифма — а точнее, бесполая — сыграла не последнюю роль в уничтожении ритма блэйковского «Тигра».
И еще 66-й сонет. Последние две строки. Прелесть какое двустишие:
Все мерзостно, что вижу я вокруг.
Но жаль тебя покинуть, милый друг.
Это уже оперетта. Просто явственно слышишь мелодию и видишь картавого старичка («мегзостно») во фрачке, делающего ручкой. Там дальше мелодия ускоряется и идет каскад, он и она, причем он так потешно выбрасывает коленки в стороны… Но, конечно, это вышло у Маршака нечаянно, от безвкусицы и бесчувствия. Опереточные куплеты — вещь непростая, требующая если не таланта, то лихости, думаю, специально бы он не смог…
Человек этот, исписавший кучу страниц, слывший мэтром не только официально, но и среди приличных и одаренных людей, не написал ни одного живого слова. Он ни разу не вскрикнул, не заплакал, не выругался — ни в переводах, ни в оригинальных стихах. Читать его — утомительнейшее занятие, выматываешься от придумывания смыслов и чувств, от подстановки собственных ударений в эту аморфную и безударную массу. Кстати, читать его стихи монотонно, как обычно — и правильно! — читают поэты, просто невозможно по существу. Маршак не доверяет ритму стиха, и слово у него не сцеплено с ритмом, не усваивает его и не преодолевает, а существует само по себе. И приходится, чтобы выявить хоть какую-то иерархию, задавать принудительные интонации, какое-то место искусственно смазывать, какое-то подчеркивать, так же искусственно, то есть читать, как читают стихи актеры или учителя на диктантах. Собственной поэтической интонации стих Маршака не содержит.
Помнится, в школе, в каких-то начальных классах, мы учили наизусть стихи о гербе: «Но не орел, не лев, не львица собой украсили наш герб[2]». Нас заставляли просто истошно выкрикивать: НАШ герб, — чтобы подчеркнуть противопоставление ихним, в стихе-то этой необходимой интонации не было.
Кстати, безоговорочная лояльность Маршака в самые разные времена, беспредельная вписанность вплоть до слияния — это не только простительная трусость, но главным образом просто характер, сколько можно об этом судить по творчеству. Вписываться — было у него в крови, мягко, беззубо, безлико, бесчувственно укладываться в любую готовую форму — поэтическую, жанровую, политическую. Он был бесконечно удобным автором. С одной стороны — образован, начитан, то да се, английский язык. С другой стороны — абсолютно надежен, поскольку лишь сказанное высказывал, да и то так глухо, что и не слышно.
Интонационное безразличие его стихов, в том числе и детских, приводит порой к смешным парадоксам.
Один мой приятель носился с шуткой, на которую многие покупались. Представляете, говорил он непосвященному, Маршак-то тоже… не просто так. Рискованные иногда номера выкидывал. — Бросьте, возражали ему, это немыслимо. — А вот, вот, послушайте. И он читал подлинного Маршака:
Мне говорили много раз
Знакомые ребята:
«Стихи, пожалуйста, для нас
Скорее напечатай!»
Я написать стихи готов,
Ребята, дорогие,
Но не печатаю стихов —
Пораженные слушатели не всегда догадывались, а тем более совсем немногие помнили, что это стихи о типографских работниках, а не о редакторе и Главлите.
И все-таки, и однако…
Каждый раз упираешься в это «однако» при попытке любой категоричности. Однако: есть среди детских стихов Маршака умные, легкие и веселые, что, казалось бы, уж совсем невозможно. И в чем же тут дело:
Однажды старушка
Отправилась в лес.
Приходит обратно,
А пудель исчез.