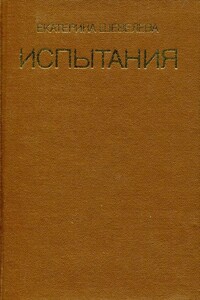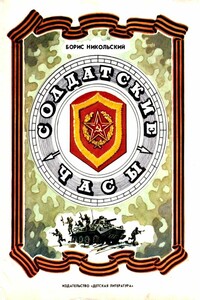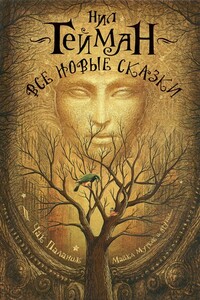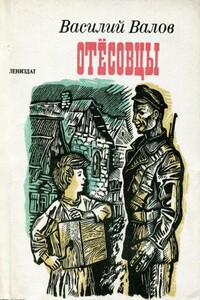Рассеяли повстанье летом. Вмоментально можно сказать. Налетели, как коршуны на кур, ну, и давай саднить, давай крошить… Ладно плевались сначала мужики дробовичками: колибером, вишь, не сошлись — нас рота, их полк… не то больше. Да что там — дело не в численности, а оборужение, значит. Сказать, мужичье, что мошкара: ты ее давишь, а она свое прет и прет, а нас оттого еще пуще забирает. Ну, и мы сазартились, эх, и забористо били… обойма за обоймой, что машина. Клади ствол на наковальню и куй, да сам, как из горна. Пофурили из берданок, стало-быть, слабо супротив пули, — кинулись на ура пиками самоделешными да вилами, значит, на перевес хотели перебросать нас. Ну и мы — запросто озверели… Пустячки, брат, для нас, плевое дело… Повернуло мужичье оглобли, а мы им вдогон.
Все же полную ликвидацию не произвели, хош и помяли вдосталь. Забрали остаток наиспыт живьем. Рассовали на ночь по амбарам.
Ночью выволок я одного наугад из амбара, а он на глаз манер полковника имеет. Здоровый такой, коснись драки, пожалуй, санями б за оглобли начал глушить неприятеля. Надоть переправить в царство небесное. Взял под руку, не противляется, стало-быть, решение имеет: все одно конец — без кипяти легче.
Вышли на зады, видать, перекипел нутром:
— Чурка, — говорит, — с глазами! Безмозглое существо, только не вздумай живьем закопать.
Цыркнул по правилам, а он повышение голоса возымел:
— Шпана, — говорит, — за каплю моей крови отплотитесь сотней сволочей…
— Дожидайся, — смеюсь, — на том свете… расставляй пошире карманы…
А самого, чую, зло взяло. Нашел место вступать в прения… канитель разводить…
— Стреляй, — говорит, — здесь! Не пойду дальше…
Взял тарталку на изготовку, впер дулом в спину, говорю:
— Двигайся к месту скорей!
— Не пойду, стреляй!
Хошь некогда давать поблажку, все же по добру вразумляю благородия:
— Мучиться будете, гражданин, идемте на месте пулей облегчу…
Кой-как вразумил-таки. Довел… На месте только двое, понимаешь?
— Сволочь, — говорит, — дай курнуть напоследок!
— От сволочи слышу, — отвечаю, — а ежели благородию туже охочь табачным дымом надышаться перед смертью… извольте.
Ткнул в зубы папиросину. Смеюсь:
— Да, благородию не фартит — в раю-то курева по штату не положено, потому вонько ангелам.
— Мерзавец, — кричит, — душегуб, изверг!.. И далеко, было, ушел на язык, да цыкнул на него, а он:
— Сапогами, — кипятится, — поживись, мерзавец, наставляй дуло в сердце!
Выпала изо-рту папиросина, ртом нагинается за ней к земле: руки, вишь, на привязи…
Внес предложение о прекращении курения. Значит, казательным нажал курок, и словно к дулу притянуло — растянулся брюшком наземь…
Хошь он и успокоился, а видать в яму не хочь, значит, охоты не имел допреж. По привычке чирк спичку. Чую ятно, прекратил дыхание. Гляжу светлым пятном зеркалится огонек от спички на сапогах. Ощупал наспех, видать, хром, что у взводного.
Стянул с ног сапоги, второпях отбросил штыком тушу и смазал пятки.
Гуртовая: без засыпки — облегчил делу конец…
Прихожу к себе, гляжу и впрямь сапоги на ять. Только не носить пока-что: подметить могут, потому припрятал под замок. Так значит…
Дальше — больше вошел, стало-быть, в полнейшее доверие военкома: завсегда напримерно другим меня становил.
Конешно, и то по его рапорту вышло. После подавки повстанцев, отбили десяток ребят на отряд, а как я надежный из всех — меня начальником, тоись командир отряда, сам десятый.
Приткнули мой отрядик к суду, и двинулись мы в городишко уездный, судить живых и мертвых. Сказать, судили-то судьи, а мы для порядка при суде и прочих переправ от ардома включительно, но на тот свет.
Город на бумаге числится городом, а всамделешно село. Одни деревянные двухъэтажки. Народишко в городе пуганый, все еще не обык к диктатуре, даж красных штанин боится.
Важность моей личности обыватели учуяли скоро.
Еще бы: начин суда завсегда мой, как это гаркнешь:
— Встать, суд идет!..
Повскочут все с мест, ажно самому хохотно, а все же строгость имеешь принародно. Как ни на есть, хоть оно и сам только десятый в отряде, все же начальник, да комендант на суде.
Судили по вечерам в народке заместо спектакля. Набегут обыватели со всего городишку и пучат глаза…
Вот в этом-то городишке и была история с бабой!..
— Ты только подробней, — обратился я к Сочку.
— Могу подробно, — продолжал он, — потому помню хорошо, да как еще помню-то…
Наперво заметь: любовь штука серьезная. Обожди, брат, не с тово конца зачал. Дай-ка стакан, кувыркну еще малость для полного просветления памяти.
Подвернулись, значит, дела эдаким фертом. Приказали мне, как коменданту, свести девку одну. Закрытым, вишь, обсудили, как требуется по дикдатуре, стало-быть.
Нам-ат не все ли равно, что открытым, что закрытым, лишь бы подпись начальства должного.
Чиста, брат, девка на рожицу, токо малость слиняла в подвале. Вывел в полночь, нето позже… Водили за город в березник. Неприлюдное место.
Мы-то, канешно, обыкли к месту.
Баба бой, а руки по положению всеодно на привязь назад, как и мужскому полу.
То ж, как всегда, повел под руку. Точно на гулянку в лес…
Ковтенка на ней тоненькая, а как руки назад — буффера, так и рвут ковтенку. Иттить все же порядком… Заметно расстоянице.