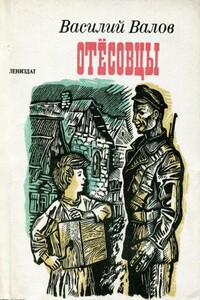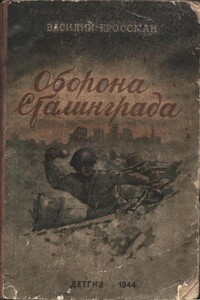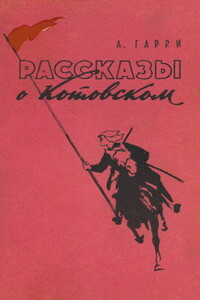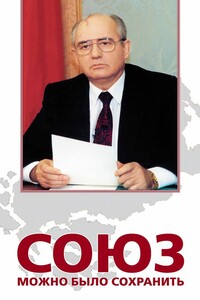По постоялому двору Баранова ходил парнишка лет тринадцати и каждого постояльца опрашивал:
— Дядя, ты не ардашевский будешь?
Стояла такая жара, что собаки бегали с высунутыми языками, а люди еле передвигали ноги. Видать, лень было мужику откликнуться парнишке, ответить ему.
Малец не отставал:
— Спрашиваю, не ардашевский?
Тогда уж недовольно отвечал мужик:
— Говорят тебе — нет.
— Ничего ты не говорил.
И парнишка, размахивая узелком, шел к другому постояльцу. Постояльцев во дворе было много — как в базарный день. Кто запрягал коней, кто смазывал колеса. Иные распивали в помещении чай. По счету, наверно, десятый постоялец сразу ответил толком парнишке:
— Нет, молодчик, мы не ардашевские, а вон с Микишкой ругается, так тот…
Малец зашагал к забору. Там у телеги, полной навоза, бородатый мужик бранился с работником Баранова Микишкой.
— А какое ты право имел на мою телегу навоз класть, мошенник эдакий! — кричал он.
Микишка, будто не слыша, под навесом молча соскребал лопатой навоз.
— На дармака норовят всё, — разорялся мужик. — Дозволено вам насмехаться над постояльцами!
Малец подошел к мужику.
— Он, может, твоими же вилами накладывал-то, — сказал он.
Микишка отставил лопату и смахнул со лба пот.
— Тебе же все равно порожняком ехать-то, — сказал он, — вывезешь за город и свалишь там…
— Ежели б все равно, лазали б в окно, — сказал мужик, — а то на что-то двери прорубают.
Пока запрягал он клячу, малец все терся около: то чересседельник перекинет, то вожжи заправит.
— Свали, дядя, тут — и баста, — подзадоривал он мужика.
Мужик хлестнул раза два клячу, круто свернул влево и так опрокинул воз, что ни соломинки не осталось на телеге.
— Это ловко, — захохотал малец, — так вот и надо!
Микишка выбежал из-под навеса, с лопатой подался на мужика:
— Вот хлюст какой! Варнак!
Парнишка кинул на телегу узелок, схватил железные вилы.
— Не лезь! — закричал он, направляя вилы на Микишку. — Запорю!
Из каменного двухэтажного дома вышел сам Баранов, остановился на крыльце.
— Ты что это, мужик, тут и свалил?
Бородач, не оглядываясь, погнал клячу к воротам.
— Не надо нахальничать, Матвей Петрович, вот что! — крикнул он Баранову.
Малец стоял на телеге с вилами в руках, как часовой. Высунув язык, строил он Микишке рожи: таращил глаза, казал ему нос. А у самых ворот крикнул:
— Болван чубастый!
Когда отъехали от постоялого двора шагов двадцать, малец положил повдоль телеги вилы, присел.
— Номер их не прошел, дядя, — весело повернулся он к бородачу.
— Ведь всюду норовят на шею сесть, — злобился мужик.
Тут он оглядел парнишку. Видать, что-то хотел сказать ему или спросить, но колеса так дребезжали, что надо было говорить криком. Ехали по мощеной Приютской улице.
В такт шагам клячи парнишка начал наигрывать на ушах. По очереди нажимал ладонями то на одно, то на другое ухо. Получалась интересная музыка: в ушах егозило взад-вперед «ухи-ухи-ухи».
— А ты далеко ли? — спросил наконец мужик парнишку.
— Ухи-ухи-ухи, — твердил тот, нажимая ладонями разом на оба уха.
По кривой улице кляча вывезла телегу на гору. С горы весь город стал виден как на ладони. Затонули дома в зеленях, только собор и церкви выбивались маковками куполов.
— Заморил кобылу, — вздохнул мужик.
— Ничего, доедем помаленьку, — делово отозвался малец.
Бородач опять оглядел парнишку и опять ничего не спросил. С Вокзальной улицы выползло навстречу три грузовика. Кляча подняла уши, шарахнулась в сторону. На открытых площадках автомобилей везли раненых солдат. Лежали солдаты лицом к небу, и ступни их ног торчали как колодки.
— Ишь, готовеньких привезли, — вздохнул бородач.
— Это с эшелона, — сказал парнишка, — каждый день привозят с фронта.
Когда уже грузовики были далеко позади, кляча побежала рысью.
После линии железной дороги оборвалась каменная мостовая. Сразу замерли колеса. По левой стороне дороги шли деревянные дома. Почти над каждым домом высилась стеклянная вышка, и над каждым крыльцом висела вывеска «Фотография».
Бородач намотал вожжи на левый локоть и, вытащив кисет, стал закуривать.
— Табачком балуешься? — обернулся он к парнишке.
— Нет, не пробовал еще, — ответил малец.
Намуслив папиросу, бородач залепил ее и, положив на кремень кусочек трута, кресалом начал выбивать огонь. При этом приговаривал в такт:
Эй, сибирский царь Колчак,
Дай огня нам, чак и чак…
И, когда задымился трут, ловко приставил его к концу папиросы.
— Как пахнет трут-то, — сказал малец.
Бородач раскашлялся от табака.
— Надо бы со своим смешать… крепкий маньчжурский, — сказал сквозь кашель.
По правую руку от дороги показались казармы. Стояли они громадные, цвета моркови. На площади военного городка шли строевые занятия.
Офицеры держались обособленно, в стороне от марширующих солдат. Отчетливо выбивалась из шума команда:
— В ногу!
Враз отзычивали солдаты:
— Айть, два, три!
— В ногу! — подзадоривал командир.
— Айть, два, три! — отвечали солдаты.
— Левой! — поддавал командир.
— Айть, два, три!
Бородач мотнул носом в сторону городка:
— На убой обучают. Неделю поманежат — и на фронт.
— Известно, на убой, — согласился малец.
— Ной-ты, шкура барабанная! — хлестнул бородач клячу и заерзал на месте, — Петруху-то моего вот-вот возьмут… на очереди он.