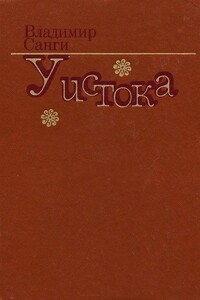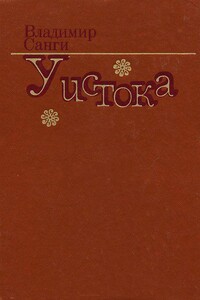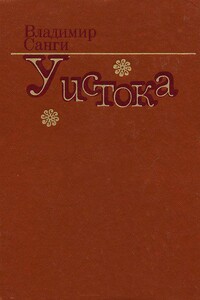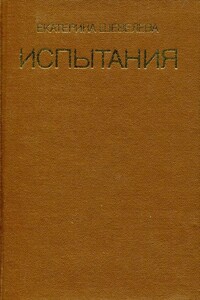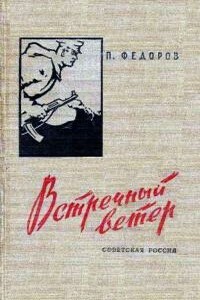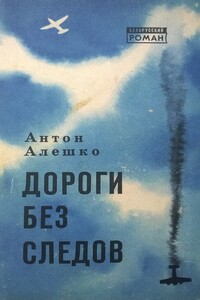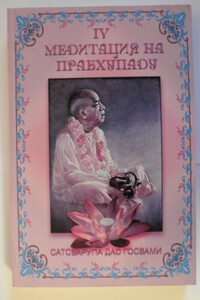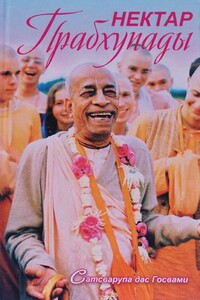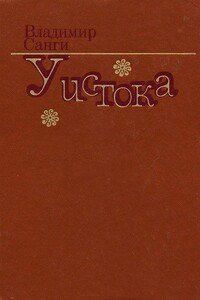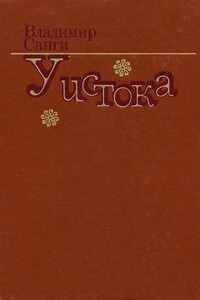Как-то ночью ехали мы заливом. Было тихо-тихо, настолько тихо, что казалось: пискни комар на том берегу — и мы услышим. На заливе ни одного всплеска, лодку ни разу не покачнуло.
Лёгкий туман парил невесомо. Сквозь него и подслеповатая заря, которая летней ночью не покидает небо, и зыбкая лунная дорожка, и сама луна, и звёзды были матовые, будто кто их слегка припудрил.
Я аккуратно опускал весло, придерживая его в тот миг, когда оно входило в воду.
На корме смутной громоздкой тенью выплывал старик. По-видимому, и ему не хотелось нарушать тишину: он попыхивал трубкой и пока мы пересекали залив, не произнёс ни слова. И не видел я, как он взмахивает кормовым веслом, и только по упругим длинным толчкам лодки узнавал глубинные гребки старика.
Прошло ещё много времени, прежде чем я уловил ленивый, как сквозь полусон, скрипучий голос чайки:
— Ке-ра, ке-ра, ке-ра, ке-ра, — будто уговаривала она кого-то.
Старик перестал шевелиться. Я понял: прислушивается. Потом услышал его шёпот:
— На гнезде…
Вскоре донеслись голоса и других чаек, такие же негромкие и дремотные: мы проезжали мимо острова Тьатьр-ур — острова Крачек.
Разговор маленьких легкокрылых чаек не нарушал тишину. Он звучал в ней как музыка, подчёркивая умиротворение и спокойствие.
— На гнёздах сидят, — как и прежде, шёпотом сказал старик.
Вдруг раздался невероятный гвалт, и в воздух взмыло большое белое облако, будто взорвало остров.
Меня бросило в жар. Потом словно окунули в холодную воду. В утлой лодчонке я почувствовал себя очень неуютно. Я в ужасе таращил глаза и вертел головой, но не мог понять, что происходит вокруг. Я с надеждой посмотрел на старика: может, он поможет чем-нибудь. Но и старик в напряжении смотрел на остров, смутно темнеющий в стороне от нас. Голова старика в брезентовой шапке поворачивалась из стороны в сторону на длинной худой шее и походила то на вопросительный знак, то на его же обгорелую трубку. Я на миг забыл о своём страхе и усмехнулся нелепому виду старика. Я, конечно, и не подумал, как выглядел сам со стороны.
И тут меня всего передёрнуло: будто скала обвалилась в воду. Гвалт перешёл в грай. Стон, свист, скрежет, визг…
И мой старик вдруг замахал руками, гулко ударил веслом по лодке. Удар. Ещё удар. И невероятный вопль:
— У-лю-лю-лю! Га-га-га! Улю-лю-лю! Улю-лю-лю-у-у-у!
Старик перешёл на дискант. Ещё энергичнее замахал руками и тонко завопил:
— И-ги-ги-и-и!
И осатанело захохотал:
— Так его! Так его! Ха-ха-ха-ха-а-а-а-а!
Только теперь я заметил: от острова, шумно отфыркиваясь, быстро плыло что-то большое и тёмное. А над ним, прочёркивая темноту, тысячи белых стрел с пронзительным криком вонзались в спину большому зверю. А зверь, беспомощно взрёвывая и тяжело отфыркиваясь, в панике уплывал в ночь.
А старик распалялся всё больше и больше. И восклицал восхищённо:
— Вот что делают! Вот что делают маленькие мерзавцы, когда они вместе: медведя прогнали! Ай-яй-яй, медведя прогнали!
Старик ещё долго не мог угомониться. Наконец он перевёл дыхание, замолчал, о чём-то задумавшись. Потом зашуршал рукой под брезентовой курткой — я понял: полез за кисетом.
Старик курил, положив весло перед собой. И я перестал грести. А он всё молчал, задумчиво попыхивая трубкой. Я знал старика: он к чему-то готовится. И не ошибся. Вот что рассказал он.
Раньше чайки не жили вместе. На самом деле, зачем им жить вместе! Ведь каждая из них имеет сильные крылья, такие сильные, что они могут перенести чайку через море. Каждая из них имеет острые глаза, такие острые, что они могут увидеть рыбёшку даже под волной. Каждая из них имеет крепкий клюв, чтобы цепко схватить добычу или отбиваться от врагов.
Так думали и крачки. Как думали, так и жили: каждая в отдельности добывала пищу, каждая в отдельности вила гнездо.
Но не всегда легко найти рыбу: море большое, и рыба плавает, где ей захочется.
И летают чайки каждая сама по себе. Вот над пенистой волной пролетела черноголовая крачка. Как ни зорко всматривалась она в волну — не нашла серебристых рыбёшек. Так и ни с чем, голодная, улетела черноголовая крачка.
Вот над тем же местом пролетела красноклювая крачка. Зря она здесь летала: у черноголовой глаза не хуже, чем у красноклювой. И красноклювая улетела ни с чем, голодная.
И ещё много крачек пролетало над пенистой волной, потому что не знали, что здесь уже побывали другие.
Вернулась черноголовая крачка к своему гнезду уже в потёмках, так и не найдя рыбёшку. И что видит: сидит у её гнезда большая ворона и склёвывает яйцо.
Забилась чайка, закричала тревожно. Ей не прогнать ворону: та большая, сильная.
Прилетела на крик красноклювая крачка, сама вся в слезах. Жалуется:
— А моё яйцо украла мышь.
Прилетает третья крачка и тоже жалуется:
— Кто-то разорил моё гнездо.
А ворона склёвывает уже второе яйцо.
Взлетели крачки, прокричали. На их крик явились и другие чайки. Налетели они на ворону: от неё только перья полетели.
И вот держат совет крачки.
Черноголовая говорит:
— Худо, когда мы живём каждая по себе. Даже ворона и та обижает нас.
— Худо, худо, — сказали крачки.
— Худо, когда мы по отдельности летаем за пищей. Одной трудно найти рыбу в большом море, — сказала красноклювая.