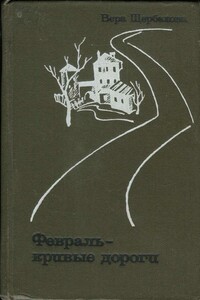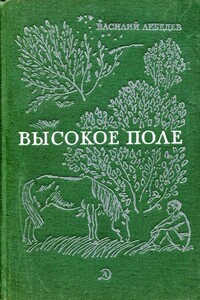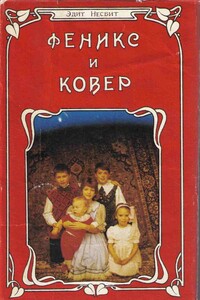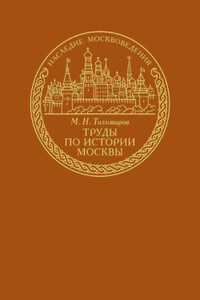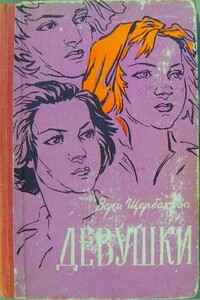Самым высоким зданием в городке была церквушка, известная по округе своим колоколом с малиновым звоном. Колокол, некогда приобретенный богатым купцом, по случаю масленицы дважды в сутки, к заутрене и вечерне, собирал принаряженных прихожан: на мужчинах были надеты пальто до пят, на женщинах — суконные шубки с борами, отороченные мехом.
В каждом доме пеклись блины: где — ржаные, а где позволял достаток — пшеничные; там и осетрина с хреном появлялась, и икра. Купить было что, имелись бы денежки!
Торговые ряды постепенно приобретали свой прежний вид. Опять появились знакомые подновленные вывески. А рядом с ними пристраивались новоиспеченные торговцы, те, которые сумели запастись товаришком впрок.
Разбогатевшие башмачники торговали кожей для подметок, хромом, белой лайкой.
В последний день масленицы, в воскресенье, на улицу не выходи: катили сани, заливались бубенцы; не столько городских упряжек, сколько из деревень понаехали.
В деревнях, кроме хлебопашества, занимались всяким ремеслом. Вокруг городка осели скорняки, башмачники. До революции кое-кто из них городским богатеям на пятки наступал: каменные дома имели, лошадей породистых.
Ксения Николаевна вздыхала, выпекая блины в русской печке, и думала свою невеселую думу: тридцати двух не сравнялось, как овдовела. При жизни словом мужа не попрекнула за то, как одиноко и тяжело жилось ей — жене политического ссыльного. Но в душе Ксения Николаевна не раз винила своего Дмитрия Михайловича — механиком на местной колодочной фабрике работал, достаток в доме был, что ему не жилось спокойно?
«Ксюша, пойми, — в редких весточках писал он жене, — лопнуло у народа терпение, и мы своего добьемся. Теперь уже скоро!»
В праздник Ксении Николаевне делалось особенно не по себе: «Раскатались толстомордые... Они и порешили моего Митю!»
— Что ж получается, неужели зазря погиб ваш отец, — жаловалась она своим дочерям: пятнадцатилетней дочери-комсомолке и младшей, Настеньке.
— Временно это, мама, временно. Тебе же толкуют. Настенька вон и то понимает, —отвечала Мария.
«Много чего мне толковал ваш отец, разуверилась уж я...» — тоскливо думала женщина, но молчала. И это молчание пугало старшую дочь.
Листок календаря с роковой датой для семьи Воронцовых — 1 мая 1918 года — бережно сохранялся в доме вместе с документами погибшего отца. А на обратной стороне листка Настя, едва научившись писать печатными буквами, нацарапала размазанным от слез чернильным карандашом: «Папанечка, родной наш, я не забываю тебя...»
В тот памятный день впервые в жизни Настя была на митинге вместе с сестрой. В свои неполные три года она не могла помнить этого, так ее уверяли сестра с матерью, но девочке казалось, что она помнит и митинг, и отца, и потом самое страшное... как убивали его...
Пока председатель Волостного исполнительного комитета, а затем отец — его заместитель — произносили речи с обтянутой красным полотнищем трибуны, сестры в изношенных пальтишках, зато с пышными красными бантами на груди, прозябли до костей и промочили ноги.
Не могли же они лишить себя удовольствия послушать отца, а потом в колонне пройтись по бывшей Московской, переименованной в Ленинскую, улице!
Вечером, выпив по кружке настоянной малины, девочки залезли на печку, да так и проспали на ней всю ночь. Марии всю ночь снились алые знамена с золотыми кистями, а она сама будто плыла по воздуху, вздымаемая звуками Интернационала. Отец в шинели, начищенных сапогах, со строгим лицом, держа руку у козырька, возвышался над толпой, и Мария гордо оглядывалась: все ли знают, что она и Настя — его дочери?
Когда проснулись, отца дома уже не было. Мария принялась помогать матери собирать на стол. Обе то и дело поглядывали в окна. Из близлежащих и дальних деревень одна за другой громыхали подводы, как в базарный день. В городке явно что-то готовилось.
Наконец Ксения Николаевна не выдержала, низко повязалась платком и отправилась на площадь к церкви.
По переулкам, прижимаясь к заборам, шныряли какие-то подозрительные люди.
Поев, сестры, воспользовавшись отсутствием матери, выскользнули из дому. Марию одолевала тревога за отца. Она знала, что все затруднения с хлебом обыватели валили на него.
В бывшей гимназии, где училась Мария, она умела постоять и за себя и за отца: одних убедить, других, «недобитых буржуев», припугнуть, чтобы не болтали чего не понимают. Она и Насте наказывала, если услышит, что подружки — «хоть и от горшка — два вершка» — будут болтать о нем то, что услышали дома, говорить, что все это неправда.
Сестры побежали на соседнюю улицу к военкомату — бывшему поповскому дому, — где собралась многочисленная толпа. Среди понаехавших из деревень виднелись и горожане.
После беспорядочных выкриков, что вот-де комиссары заперлись и не пускают честных граждан, в окна военкомата полетели камни. Затем несколько человек, самых задиристых, принялись выбивать двери. Винтовок в военкомате оказалось всего десять. Их расхватали, кто посмелее. Откуда-то появилось красное полотнище на двух суковатых палках с надписью: «Власть, дай хлеба!»