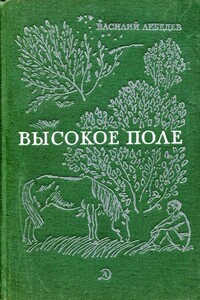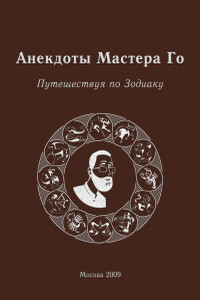Выехали в самое неподходящее время — под вечер и в дождь. Такая погода — не редкость даже в сенокос, стоит только задуть ветрам, и, глядишь, замутилось на горизонте, посерела и зарябила вода в реке, по-осеннему зашумели деревья, а небо все ниже приникает к земле, давит на душу ожиданием чего-то. Иной раз с полсуток все примеривается погода, потом вдруг оборвется ветер, тихо станет вокруг — да так, будто все на свете сразу перестало дышать, и вот уже пошел он, нежеланный, мелкий, как из частого сита…
— Только бы не затяжной, — вздохнул Алексей Иваныч.
Он втянул голову в плечи, чтобы не мокла шея, привычно сгорбился и, прижимая локти к бокам, умело выехал из ворот. Когда телега простучала по мостку через канаву, он оглянулся на дом.
В окнах, за запотевшими стеклами, качнулись лица младших — бледные пятна — одно, два, три… Все они завидовали старшему брату, Славику, что сидел в телеге вместе с отцом, накрывшись мешком от дождя.
Славику радостно было, что отец взял его в столь серьезную поездку, к тому же это было очень неожиданно, поскольку раньше чем через два-три года он не рассчитывал попасть с отцом на сенокос.
— Хлеб береги: не размок бы! — хмуро бросил Алексей Иваныч через плечо.
Славик тотчас засуетился, зарыл торбу в сено, навис над ней грудью. Не замочит… Отец оглянулся, поправил косы и грабли, что тряслись позади, свешиваясь с телеги, тронул зачем-то мешок на голове сына, словно проверял, тут ли он, и надолго замолчал. Изредка он понукал лошадь, но голос его был совсем не таким, как раньше — веселым и требовательным, в нем почему-то уже не было той силы удачливого делового мужика, которым слыл он в округе с молодых лет. Славик догадывался, отчего произошла за один только день такая перемена в отце, но не спрашивал. Он лишь выглядывал по временам из-под мешка и видел, как все больше и больше темнеет серая фуфайка на согнутой родной спине.
— Папа, накройся.
Отец не ответил.
Покос находился далеко, за восемнадцать километров, в благодатной лесной стороне, где у отца были знакомые. Славику нравилось, что дорога неблизкая. Он неустанно смотрел вперед из своего укрытия, смотрел вдоль левого бока лошади, радуясь каждому новому повороту или пригорку, и все ждал, когда зачернеет лес и деревня Овраги.
Об этой деревне он был наслышан с детства, знал, что она небольшая, но очень веселая, что там в каждом доме гармошка, и, должно быть, поэтому лесная сторона, в которой лежали Овраги, не казалась заброшенной и дикой. Он помнил, как заезжали к ним в дом подводчики из этой деревни. Они останавливались уже на обратном пути из города, с базара. Мужчины заходили на час-другой поговорить с отцом о жизни — о ценах, об урожае, о событиях в соседних деревнях, в городе и в мире, а в это время кто-нибудь из младших подводчиков — сын или племянник — сидел на возу и самозабвенно играл на гармошке. Был в Оврагах веселый мужик — Лука Мокрый, высокий, черноволосый и черноглазый, похожий немного на цыгана, но добродушный и простой. О его неунывающем характере рассказывали всякие истории, и в каждую хотелось верить, потому что видели однажды, как горел Лука. Дом его загорелся ночью. Он вынес семью, сундук да гармошку, а когда понял, что больше ничего не спасти — сел на камень и заиграл веселее. А утром наточил топоры, кликнул мужиков и пошел в лес валить деревья на новый дом…
— Папа, Овраги скоро? А пап?
— У? — Отец с трудом оторвался от своих мыслей…
— Овраги-то скоро? — снова спросил Славик.
— Не скоро еще… Подремли-ка, вон уж темно…
Славик послушался. Он привстал на колени, подергал снизу сухого сена, отогнул ворот пиджака, что создавало уют и располагало к дреме, и уже хотел упасть боком в приготовленную постель, как вдруг заметил в стороне города бледный косой столб прожектора.
— Смотри-ка чего! — воскликнул он.
— Да, близко… — ответил Алексей Иваныч и заторопил лошадь, словно боялся, что война может его опередить. — А ты подремли себе, подремли!
Славик лег, накрылся отсыревшим мешком и задремал. Прижавшись всем телом к тонкой сенной подстилке, он слышал жизнь каждого колеса и самой телеги — каждый их сокрытый скрип, шорох, еле уловимую дрожь. Некоторое время он чувствовал запах сена, мешка, от которого пахло намокшим льном; порой, когда отец, забравшись в телегу с ногами, переменял позу — ударяло в ноздри дегтем от смазанных сапог, иногда тянуло лошадиным теплом и навозом. Но чем глубже он уходил в сон, тем быстрее это ослабевало, тряска телеги становилась ровнее, мягче, она уже не беспокоила, лишь убаюкивала, и откуда-то издалека вдруг прокричала ему радость: сейчас ты самый счастливый человек…
* * *
В Овраги приехали в темноте.
Славик проснулся оттого, что телега запрыгала по мосту. Почти одновременно он услышал какие-то звуки, тяжелые, неприятные, и тотчас высунул голову из-под мокрого мешка.
Дождь перестал. По всей деревне светились два-три окошка да и те каким-то робким, лампадным светом, в остальных домах, еле видимых во тьме, не было никаких признаков жизни, и только в доме напротив билось чье-то горе — оттуда доносился плач. «Что это?» — притихнув, как в лесу, подумал Славик, но и подумал осторожно, шепотом.