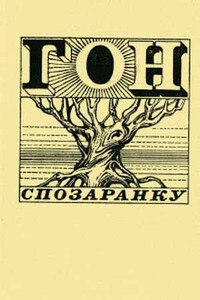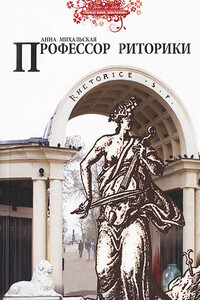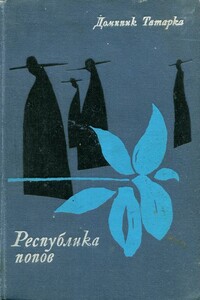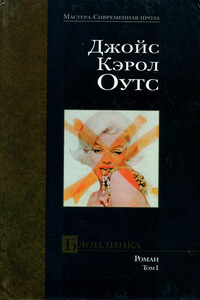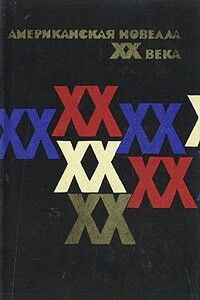Элен подумала: «Влюблена я снова, что ли, как-то по-новому влюблена? Может, оттого меня и принесло сюда?»
Она сидела в зале ожидания автобусной компании «Йеллоу Лайнс». Она знала большое старое помещение с его грязным кафельным полом, с сиротливой телефонной будкой в углу, автоматом с леденцами, автоматом с сигаретами, автоматом с воздушной кукурузой. Хотя она отсутствовала четыре месяца, ничто не изменилось здесь, даже пожилая кассирша с крашеными рыжими волосами за тем же самым прилавком, продававшая тут билеты, сколько Элен себя помнила. Много лет назад, еще до своего замужества, Элен приезжала иногда в город с подружками, в машине отца какой-нибудь из них: нагулявшись вдоволь по городу, они обычно шли на станцию посмотреть на приезжих. Им не терпелось увидеть, кто сойдет с автобуса, но мало кто из пассажиров оставался в Орискани — они бывали здесь лишь проездом и выходили только затем, чтобы размяться и чего-нибудь выпить, и по их лицам видно было, что они не слишком-то высокого мнения о городе; не слишком высокого мнения были они и о деревенских девочках, толпившихся в пестрых платьицах вблизи автобусной остановки и в своем простодушии застенчиво улыбавшихся незнакомым людям. Их учили быть вежливыми, улыбаться первыми, а то ведь никогда не известно, на кого напорешься. Итак, Элен снова была в Орискани, только на этот раз она сама приехала сюда на автобусе. Ехала от самого города Дерби одна, совершенно одна, и теперь дожидалась отца, который должен забрать ее домой, чтобы она могла вернуться к прежней жизни и угомониться.
Было жарко. Всюду ползали сонные мухи. Какая-то женщина с хилым ребенком на руках непрестанно от них отмахивалась. Старуха, продававшая билеты, неотрывно смотрела на Элен, будто не в силах отвести от нее глаз, будто знала все сплетни, ходившие о ней в округе, и хотела, чтобы Элен о том знала. У Элен выступил на лбу пот, и она вскочила с места, чтобы уйти от старухиного сверлящего взгляда. Она направилась к автомату с леденцами, но на конфеты даже не взглянула: она посмотрелась в зеркало. Собственное отражение всегда ее утешало. Чем бы ни была занята ее голова, а сейчас она очень беспокоилась по одному поводу, — это ничуть не отражалось на ее внешности, не касалось ее гладкой нежной кожи с едва намечающимися веснушками на носу и на лбу, прохладной безгрешной зелени ее глаз, она была самая обыкновенная деревенская девчонка, и любой горожанин, даже не зная ее, определил бы это с первого взгляда, вот, мол, одна из тех милых, приветливых девчушек, которые вечно напевают что-то про себя и смотрят на вас широко раскрытыми глазами, будто ждут от вас чего-то хорошего. Ее светло-каштановые, слегка вьющиеся волосы были небрежно зачесаны назад за уши. Сейчас согласно моде они коротко острижены, в школе они у нее были длинные. Она внимательно всматривалась в свои глаза. Собственно, о чем тут беспокоиться? Где-то через час она снова будет дома.
Не у мужа, конечно, а у родителей. И из зеркала на нее смотрело лицо, которое совсем не изменилось. Ей уже исполнилось двадцать два — многовато, на ее взгляд, но выглядела она совершенно так же, как в день свадьбы пять лет тому назад.
Но тут же она подумала, что глупо сопоставлять прежнюю Элен и теперешнюю. Вернулась к выстроенным в ряд скамейкам и уселась на свое место. Пусть пялится старуха, ей все равно. Какой-то матрос в несвежей белой форме курил и поглядывал на нее, правда, без большого интереса; у него и без нее было о ком вспоминать. Элен раскрыла сумочку, пустыми глазами заглянула в нее и снова закрыла. Человек, с которым она прожила в городе последние четыре месяца, сказал ей как-то, что это глупо — нет, не так он сказал, а завернул другое словечко, что-то вроде «инфантильно» — проводить параллели между ребенком, которым она когда-то была, и замужней женщиной, какой стала теперь, матерью, прелюбодейкой, и от пришедшего на память слова «прелюбодейка» уголки ее губ приподнялись кверху в несколько озадаченной улыбке, улыбке горделивой и недоуменной, как у больного, которому наконец объявили, что он неизлечим. Потому что болезней так много, а выход из жизни всего лишь один, только одна смерть, и так много путей к ней. Похоже на двери, сонно думала Элен. Идешь по коридору громадного богатого дома, как в кино: хрустальные канделябры, мраморные полы… идеальный газон… — а вдоль коридора все двери, двери; выбрала не ту дверь, и все — пожалуйста, входи. Ее разморило, разбирал сон. Если ей не хотелось думать — это когда он слишком уж приставал к ней, чтобы она вышла за него замуж, развелась бы с мужем и вышла за него, непременно только за него, — на нее нападала такая сонливость, что не было сил слушать. Если ее не интересовало то, что ей говорили, мозг тотчас отказывался воспринимать слова и затуманивал их до неузнаваемости, вроде как во сие, когда не можешь что-то толком расслышать или когда слушаешь сквозь какую-нибудь плотную субстанцию, как через воду, например. Можно ни единого слова не слышать, если не хочется.
Итак, она позвонила накануне вечером и сказала отцу, что автобус придет в 3.15, а теперь уже полчетвертого; где же он? Говорил он по телефону медленно и официально, так мог говорить совершенно посторонний человек. Элен никогда не любила телефоны, потому что не видно ни улыбок, ни жестов, и разговаривать так ей быстро надоедало. Слушая отца, она впервые с тех пор, как сбежала и бросила их всех — мужа, малютку дочь, свою семью, семью мужа, приходского священника, унылую, будто выгоревшую на солнце, землю, — вдруг испытала чувство, что ничего этого нет, что, может, она просто умерла и только воображает, что сбежала от них. Все тут смотрели на город с недоверием: слишком уж он был велик. А Элен всю жизнь хотелось в город, потому что она ничего не боялась, она взяла да уехала, а теперь вот возвращается; и тем не менее ощущение было странное: все казалось нереальным, призрачным, будто она и вправду умерла и возвращалась в образе, который только внешне был похож на нее… От таких мыслей ей стало скучно, и она закинула одну голую ногу на другую. Матрос раздавил папиросу в грязной жестяной пепельнице, и глаза их встретились. Элен так и подмывало улыбнуться. Вот в том-то и была ее беда — она слишком хорошо понимала мужчин. Понимала их взгляды и их жесты: например, этот матросик глубокомысленно тер сейчас подбородок, будто был плохо выбрит, на самом же деле ему просто было приятно ощущение собственной кожи. Она понимала мужчин слишком хорошо, никогда не задумываясь, почему собственно. Сестра, четырьмя годами старше ее, совсем не такая. А для Элен что стократ один мужчина, что по разу сотня — все едино. Конечно, это плохо, так ее учили, и она верила, что раз учили, значит, так оно и есть; но в чем разница, понять никак не могла. Матрос смотрел на нее не отрываясь, но она отвела взгляд, полуприкрыв глаза. У нее не было на него времени. Отец должен был уже появиться, будет здесь через несколько минут, так что времени не было; через час она будет дома. Когда мысли ее обратились к отцу, неприглядная автобусная станция, пропитанная запахом застоявшегося табачного дыма и расплесканной фруктовой воды, словно отступила куда-то — она вспомнила его голос накануне вечером, вспомнила, как на душе у нее стало хорошо и тепло, когда она услышала этот голос и почувствовала, что отдает себя в надежные руки. В детстве ей случалось испытывать на себе тяжесть его корявых рук, и она это покорно сносила, зная, что эти самые руки всю жизнь берегут ее от беды. И ведь вечно она попадала в истории, иногда такие, над которыми по прошествии времени можно порой посмеяться, а порой и нет; отчасти из-за этого она и вышла за Пола, а до Пола были другие — так, мальчишки, которые в счет не шли, бездельники, интересовавшиеся исключительно своими машинами. Однажды она вызвала отца, позвонив ему из придорожного трактира милях в шестидесяти от дома; ей тогда было пятнадцать, она и ее лучшая подруга Энни влипли в историю с молодыми людьми, с которыми познакомились на каком-то пикнике. Вот где страху-то было, подумала Элен, теперь-то она с ними справилась бы. Слишком она была щедра. Это еще отец всегда говорил. Да и мать тоже. Одалживала деньги сослуживицам по телефонной станции; одалживала подругам платья, выбегала из дому, когда какой-нибудь шалопай подкатывал к калитке и начинал гудеть, не удосуживаясь вылезти из машины и постучать в дверь, как следовало бы. Ей нравилось делать людям приятное, что ж тут плохого? Или, может быть, ей просто от лени было что так, что эдак? У нее разболелась голова.