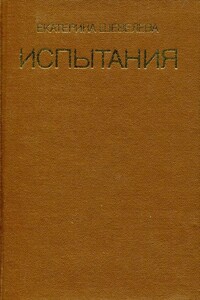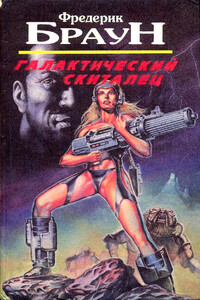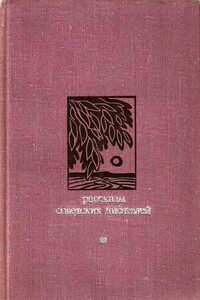Эта история не досужий вымысел; ее рассказал мне отец, когда я качал люльку его внука.
Кичи-Калайчи
В самом слове «аул» слышится далекий, протяжный, давний зов человека, затерянного между скал и ущелий, где лишь громкое эхо невнятным гулом отзывается на его «ау». Этим словом, ныне исчезающим из обихода, называли в Дагестане стеснившиеся, будто от ужаса, отчаяния и сиротства, от жестокостей холода и непогоды, каменные замшелые серые сакли, запятнанные лепешками кизяка и чудом прилепившиеся на крутых склонах гор.
Однажды я сбился с дороги в горах и по давнему совету наших старцев опустил повод, надеясь, что конь сам отыщет верный путь; но, мирно цокая подковами по кремням и гранитам, он завез меня в какие-то глухие места; впрочем, гнедому, наверное, были издавна знакомы кое-где уже поросшие стелющейся травой, кое-где загроможденные свалившимися со скал валунами и пересыпанные оползнями узкие заброшенные тропы, что ведут к величавым вершинам Дюльти-Дага, увенчанным вечным снегом. Внезапно конь остановился; он бил копытом в землю, он недовольно качал головой, встревоженный, будто укоряя себя за какой-то промах.
Я огляделся. Острая боль сжала сердце.
Сотнями пустых оконниц, черных дверных проемов глядел на меня оставленный людьми аул Шубурум. Шу-бу-рум! Будто вызывающий свист холодного ветра, протяжный вой в печной трубе, тоскливый вопль горного волка… Еще недавно здесь жили люди, которых с усмешкой называли «небожителями». А ныне брошен аул на одичалой тропе, как поношенная, старая, много раз залатанная, дырявая, не раз промокавшая под ливнями и просыхавшая на солнце овчинная шуба.
Сакли полуразрушенные, сакли в змеившихся по стенам трещинах, сакли с рухнувшей крышей… И посреди них мечеть, поднявшая в небо минарет, словно умирающий воздел последним усилием руку, взывая к аллаху. Что произошло здесь? Обвал? Землетрясение? Или, быть может, страшный мор проник в заоблачное селение, и все, кого не унесли на кладбище, в панике бежали из аула? Не потому ли так жалобно стонут полусорванные с петель ставни и плачет ветер, сдувая остатки золы из очагов, возле которых грелись когда-то веселые семьи горцев… Порой черные от копоти, порой белые, серые, синие внутренние стены комнат, полки и ниши, занавешенные пыльной паутиной, каменные полы, почерневшие от сырости. В узких улочках мечется заблудившийся ветер. Ни дымка, ни лая собаки, ни мычания идущей с пастбища коровы, ни звучного рыдания осла… Не слышно здесь и колыбельной песни, прерываемой плачем ребенка, не слышно и смеха детей, и говора взрослых…
Неподалеку на древнем кладбище стоят надгробные резные камни в рост человека: словно собрались и смотрят, окаменев от горя, предки тех, кто покинул эти сакли, эти крохотные поля-терраски на горных склонах, ныне позаросшие буйной растительной дрянью… Здесь и там слышится треск и скрип ветхих балок, тяжкое падение камня из рушащихся домов.
Я видел, как умирает человек. Я видел не раз, как умирает горный тур. И вот теперь вижу, как умирает селение, оставленное людьми…
Дико озирается мой конь. То ли тоска покинутого аула передалась ему, то ли печаль воспоминаний о детстве и первом добром хозяине-шубурумце… Наконец конь фыркнул и, понуро мотнув головой, словно пытаясь смахнуть невольную слезу, повернул обратно.
Повод опущен. Я не понукаю коня и знаю: он исправит ошибку и все-таки отыщет правильный путь.
А я думаю о последних днях Шубурума.
Все началось с хинкала из свежей бараньей грудинки, который сварила в одно из воскресений прошлой осени Хева, жена сельского могильщика Хажи-Бекира. Это было то самое воскресенье, когда из города третий раз приезжал уполномоченный уговаривать шубурумцев переселиться с бесплодных гор на свободные земли Прикаспия, в благодать и раздолье, где построен и ждет новоселов вполне современный поселок. Но, как и прежде, упрямые шубурумцы не пожелали оставить обжитые ветхие сакли.
Люди медленно расходились по тесным проулкам, и казалось, что они входят в чьи-то ворота, за которыми видны еще ворота, и еще, и еще. Неторопливо шли старцы, уже заказавшие себе надгробные плиты (конечно, без последней даты) и как бы взглянувшие на свою собственную могилу, что отчего-то наполняет их гордостью и ощущением отрешенности, почти святости; громко разговаривая, шли озабоченные горцы и горянки, окруженные детьми. Перекликаясь, смеясь, бежали дети, еще не знающие, что в мире существует смерть, и не желающие ничего знать об этом; им некогда, уже сейчас, сегодня ждут сотни радостных дел, а впереди предстоят дела еще интересней, еще радостнее — даже дух захватывает! И все вокруг говорили, говорили громко и возбужденно; так смутным и грозным гулом наполняют дупло встревоженные пчелы, когда медвежонок просунет туда мохнатую лапу… По дороге здесь и там люди останавливались и, размахивая руками, доказывали друг другу то, с чем большинство давно согласилось, чему противились лишь немногие; каждый горячо поддерживал собеседника; право, это походило на разговор глухих: «Ты на базар?» — «Нет, на базар!» — «А я думал, ты на базар…»