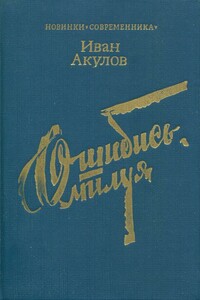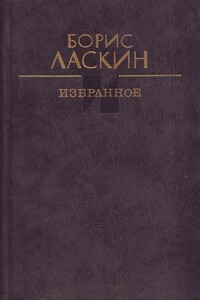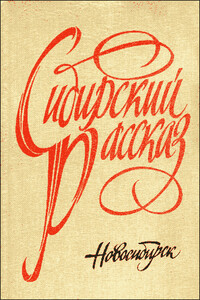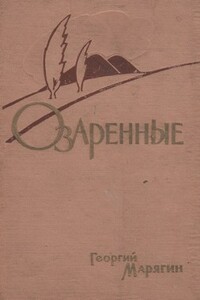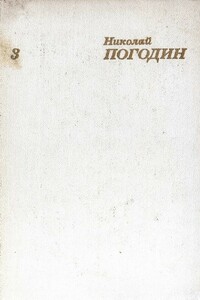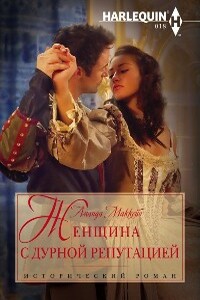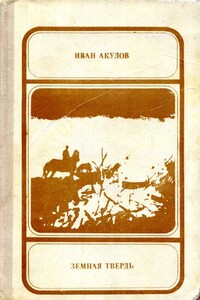Перед утром над островом пронеслась первая весенняя гроза, с ветром, громом и молнией, но — странно — не обронила на землю ни капли дождя и оставила в опаленном воздухе суровую и тревожную недосказанность. Однако на рассвете потянуло сырой и теплой ширью моря, и утро началось своим чередом.
Над заливом исходит туман, и сквозь его линялую реднину все заметней пригревает раннее апрельское солнце. Изморось, как дождь-бусенец, щедро осыпается на камни, на деревянный настил причала, на стылое высмертное железо колес и станин, серебряной пылью легла на отсыревший брезент орудийных чехлов, а дегтярные веревки, перекинутые к лодкам, будто только-только проварены в смоле, блестят свежо и ново, и с них в провисях срываются крупные набежавшие капли.
Ночью, в опасной тишине, легче было одолеть приступы сна; но утром, до которого, думалось, и не дожить, когда вот-вот должно проглянуть солнце, когда уже чувствуется его близкое тепло, вдруг сказалась вся тяжесть ночного караула: на сердце упала такая обморочная слабость, что подламываются ноги.
Семен Огородов, крепкий, едва ли не самый терпеливый солдат на батарее, измученным шагом ходит по песчаной дорожке и на поворотах, где ему положено немного опнуться, мертвеет в коротком столбняке, но тут же вздрагивает подкосившимися коленями, шалеет и, не опомнившись толком, снова идет по дорожке, не сознавая ни себя, ни винтовки, ни своего важного дела. Сон совсем обломал его, валит, опрокидывает, и солдат, зяблый, всю ночь одинокий, всю ночь крепко державший ружье, вдруг не может бороться со сном, каким-то иным разумом уже признает себя грешным, побежденным, навеки погибшим. Но самое мучительное для солдата остается то, что он не помнит, как впадает в дремоту, и сознает, что уснул только тогда, когда, вздрогнув, просыпается. В такие минуты ему кажется, что он преступно и надолго покидал свой пост, и за это время все вокруг сурово изменилось. Огородов, напуганный своим безволием, пытается громко топать по дорожке, кидает винтовку от ноги на плечо и с плеча к ноге, однако не может выйти из оцепенения, сладкие силы опять уводят его в тихое забвенье, в запретный уют, по которому истаяла вся его душа.
В казарменном бараке хлопнула дверь, а у Огородова оборвалось сердце, засуетилось, как прихлопнутое, но сам он, ободренный живым звуком, держа винтовку на отлете, несколько раз кряду присел и выпрямился, с веселой нещадностью, потер глаза мокрым рукавом шинели, бледно улыбнулся: кажется, подъем.
— За что же?.. — спросил он сам у себя вне всякой связи и, не додумав, не осознав своего вопроса, вздрогнул и ужаснулся: — И опять, и опять…
Наконец у казармы раздался сдвоенный удар в пустую гильзу, а минут через пять унтер-офицер Гребенкин, длинный и сухоносый, бодро крикнул с наслаждением и с присвистом:
— Стано-вссь!
Мимо Огородова пробежали на умывание солдаты первого расчета, обдав его запахом портянок и сонного тепла, в нательных рубахах, засудомоенных в зольном щелоке до желтизны. За ними шел, как всегда со сведенными коленями, Гребенкин в старом распахнутом мундире, на котором оттянутые пуговицы висели по обоим бортам, как медали.
— Пяском! — командовал он вдогонку солдатам, а те уже выбирали на камнях место, боясь оскользнуться и оступиться в воду.
— Падерин, сукин сын, — руководил унтер, — хошь, галькой натру? Хошь, говорю? С пяском.
Из бережливости солдаты руки моют без мыла, черпают пригоршнями песочную тину и с хрустом дерут зачерствевшие от железа и масла ладони. Вода у причала сразу помутнела, и мыть лица переходили кто в лодку, кто по камням на глубину. Окаленная и просолевшая от пота кожа на шее и лице почти не намокала, и вытирались солдаты подолами рубах. Но у хозяйственных были в заводе и четвертушки холста, тряпицы, заменявшие полотенце. А у молодого солдата, с родимым пятном под ухом на красивой высокой шее, утирка была приметно красная с вышивкой. Унтер Гребенкин подошел к нему и требовательно кивнул на утирку — солдат понял, развернул ее на больших ладонях: белым гарусом вышиты два голубка клюв к клюву.
— Девкино?
— Никак нет. Маманька.
Унтер сморщился и чвыркнул слюной через зубы:
— Выпороть бы обоих. Голубки. Станооо-вссь! — опять скомандовал он с присвистом, в котором явно слышалась угроза.
Солдаты недружно собирали строй, приплясывали, толкаясь и суча руками от холода. Возбужденные свежим утром, все нетерпеливы — охота лететь по камням, чтобы согреться. Прохватило сырым ознобом и унтера, он прячет зевок в кулаке, но бодрится, не спешит, обходя и выправляя строй. Солдаты ужимаются, замирают перед унтером, тая внутреннюю дрожь, и по команде «Бегом» диким табуном срываются с места.
Огородов глядит им вслед, завидует, и от горячего желания бежать вместе с ними ему самому становится бодрей: скоро смена, а затем пустая и тихая казарма, хранящая после ночи душное истомное тепло, от которого щиплет веки и ласково слепнут глаза. Когда над заливом исчахнет туман, с воды потянет ветерком, солдаты принуждены будут коченеть у орудий, быстро продрогнут, а он, Семен Огородов, перед тем как завалиться на нары, поглядит на своих товарищей из окошка, переживая блаженное одиночество и близкий доступный ему сон. Он наперед знает, что станет оттягивать радость сна, и, может, возьмется даже штопать свое белье, но счастье его от того не уменьшится, потому как он волен, спать ему идти или погодить…