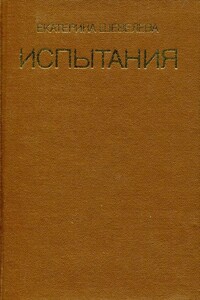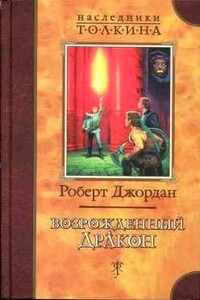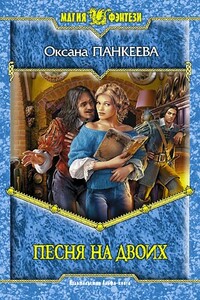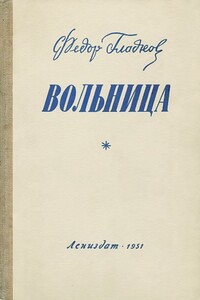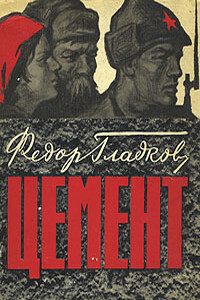С самой весны не было дождей, и хлеба на полях выгорели. Редкая низенькая соломка щетинилась, как жнивьё, пустые колоски торчали кверху сухими кисточками Подсолнечники едва поднимались над землёй, маленькие их шляпки желтели на тонких стеблях с опаленными листьями. Всюду было пустынно на полях, и казалось, что они тяжело болели и мучительно стонали. Небо было огненное, на него больно было смотреть. Знойный воздух дымился удушливой гарью, а на горизонте мерцали пламенные марева. Грачи и галки изнурённо садились на сухую траву с растопыренными крыльями и широко раскрытыми клювами.
Мы ехали из Саратова с попутным мужиком, который возвращался домой через наше село. Мужик вез какой‑то товар своему лавочнику, и мы кое‑как ютились со своими вещишками между кулями и ящиками. Пара ребрастых лошадёнок через силу тянула воз, за сутки мы делали до трёх пряжек вёрст по десяти. Ехали больше по ночам из-зa удушливого зноя, и мне было жутко трястись на скрипучей телеге в багровой зловещей тьме: зарева далёких пожаров трепетали над горизонтом в разных местах и тревожили душу смутным предчувствием.
— Жгут и жгут… всё бар жгут… — оторопело бормотал мужик. — Лихая бяда… везде бяда…
Мужик был какой‑то ошарашенный, пыльный, в заскорузлой от пота и грязи рубахе, в измятом картузе, надвинутом на переносье. Из‑под козырька уныло торчал обветренный нос и растрёпанная рыжая бородёнка. На вопросы отца он отвечал редко и невнятно и только одно выговаривал тяжко, со стоном: «Бя–ада!.. Бя–ада да и только…» Хлеба у него не было и деньжонок не было, а мешок овса для лошадей получил ом в Саратове от купца, которому он доставил какое‑то сырьё от своего лавочника. Работал он у него батраком и ездил от него в извоз на мужичьих одрах. Кормили его всю дорогу мы, и он чуть не плакал от стыда.
Все сёла на большой дороге мы объезжали стороной: караульные мужики с сучковатыми кольями в руках отгоняли нас от околиц на пограничные межи. Так тогда охраняли народ от холеры.
Отец обычно шагал возле воза или спал, уткнувшись в тюки. Мать сидела, застывшая от дум и немой скорби. Иногда она склоняла голову к моему плечу, когда я сидел рядом с нею, и шептала едва слышно;
— И куда мы едем, зачем едем, Феденька? Что делать‑то станем?… Ведь в черноту, в бездолье едем. Только и гонит нас. неволя одна… Были бы крылья — улетела бы я опять на ватагу к вольнице нашей… Люди-то там какие были, сынок! С кровью мы оторвались от них… а никогда их не забыть…
Я сам страдал вместе с матерью, Не ватага и не Астрахань были мне милы: ватажная каторга, душные, грязные бараки, свирепое издевательство над людьми выматывание из них последних сил убивали не только слабых, но нередко и выносливых работниц и рабочих. Но там мы узнали и душевные радости и волнения. Мы сроднились там с людьми духовно сильными, которые научили нас видеть жизнь и людей по–новому и пережить счастье общей борьбы рабочих людей за своё человеческое бытьё. Мы за этот год выросли оба, почувствовали новую большую правду. А что ожидает нас теперь в родием селе, в старозаветной семье деда? И вот эти голодные мужики, которые гонят нас от сёл в полынные столбники–межи, казались мне зловещими чурами, предвещающими беды и гонения в родных местах.
В наше село въехали мы после долгих переговоров и споров с дурковатым Ванькой Юлёнковым, который притворялся, что не узнаёт нас. А при въезде на улицу мы остановились перед похоронным шествием: один за другим проносили мужики три гроба. Не слышно было ни рыданий, ни вопленья, как прежде было в обычае, да и люди не брели за гробами.
Дедушка с бабушкой вышли к нам навстречу из ворот, а за ними — Тит и Сёма. Бабушка заплакала, а дед со взъерошенными зелёными волосами шёл, подгибая коленки, и, улыбаясь, кричал пронзительно:
— Ну, явились наши бродяги! Мать, где кнут‑то? Выпороть их надо, чтоб не шатались по стороне.
Но я уже видел, что он шутит, и заметил, что в нём уже не было ничего страшного: он стал какой‑то измятый, надломленный. Он первый обнялся и поцеловался с отцом и с матерью, а с бабушкой мать долго стояла, положив ей голову на плечо, и обе они тряслись от рыданий. Дед пезернулся ко мне, и в глазах его мелькнул лукавый огонёк.
— Это кто тебя оболванил, астраканец? Общипали вихры—башка‑то горшком стала. Опоганился, поди, обмирщился. Кланяйся в ноги!
Но я упрямо насупился и попятился от него: кланяться в ноги я отвык. Этот приказ деда показался мне унизительным и обидным.
— A–а, не слушаться дедушку! Избаловался там, на ватаге‑то, арбешник?.. Ну‑ка, Титка, Сёмка, дайте‑ка мне чересседельник!
Но Сёма смеялся, обнимаясь со мною, а Тит с любопытством оглядывал отца и мать, одетых по–городски, и осудительно бормотал:
— Стыда‑то нет.., без волосника приехала…
В избе отец с матерью, как принято, помолились и в пояс поклонились и деду и бабушке. Дедушка сел за стол в передний угол, а отец — на конце стола. Тит сел на лавку поодаль, мы с Сёмой, как парнишки, — на лавке за бабушкой с матерью, перед шкафчиком с чайной посудой. Сёма тыкал меня в бок и шептал:
— Чудной ты какой стал, словно кургузый! Это зачем вихры‑то обкорнал? Вы с матерью совсем сторонние да мирские стали.