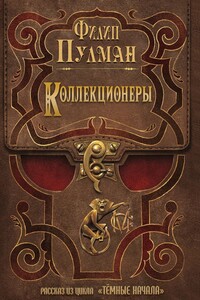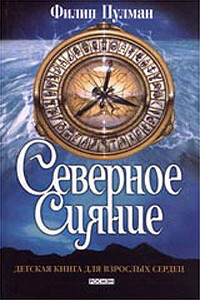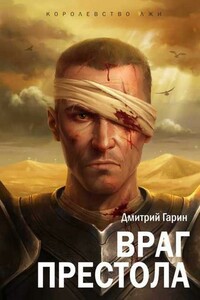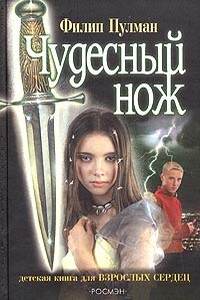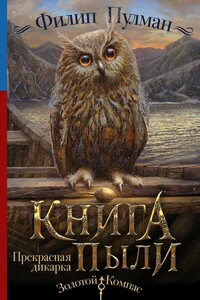— Но дело вот в чем, — сказал Хорли, — они совсем друг друга не знали. Ничего друг о друге не слышали. Речь не о создателях. Речь исключительно о самой работе.
— А вы откуда знаете? — спросил Гринстед.
— От торговца, продавшего мне картину. Фолкондейл. Макс Фолкондейл.
— Надежный?
— Ну, в пределах допустимого, конечно, но он в любом случае ее продал. Он просто хотел рассказать эту историю.
Это было в декабре 1970 года, после ужина они разместились в Старшей комнате отдыха колледжа Хорли. Было холодно, а обед получился скудным и неважным, с каким-то ореховым пудингом на десерт, очень напоминающим мокрый цемент. Маленького огонька в камине хватало на то, чтобы согреть лежащий под ними ковер, а углы комнаты оставить в холоде. Больше тепла исходило от двух стандартных ламп по обе стороны очага. Компания была небольшая: библиотекарь, капеллан, двое молодых людей, имен которых, казалось, никто не знал, приглашенный профессор филологии и Гринстед, которого Хорли позвал на этот вечер. Пока остальные обсуждали европейскую политику, Хорли и Гринстед, пристроившись в темном конце дивана и соответственно в самом дальнем кресле, тихо говорили о попавшей к Хорли картине.
Гринстед отхлебнул бренди и заговорил:
— Ну, расскажите мне, что сказал Фолкондейл.
— Он рассказал мне историю, которую слышал от дочери художника. Леоноры Скиптон. Ее отец обычно писал пейзажи в своеобразной импрессионистской манере, ничего особо выдающегося, но весьма мило. Он очень редко писал портреты. Это совершенно не входило в его привычные обязанности. Фолкондейл понятия не имел, что эта за светловолосая молодая женщина, с необычайно двусмысленным выражением лица, позировала ему — в одно мгновение она выглядела холодной, презрительной, даже высокомерной, а в следующее вспыхивала каким-то потерянным, безнадёжным и все же до боли сексуальным томлением. Очень мощная картина.
— А что она делает?
— Стоит перед какими-то пыльными розовыми шторами, сложив руки перед собой, на ней темно-синяя блузка и бежевая юбка. Весьма простенько, очень скромно. Всё кроется в лице.
— Это не была его дочь — Леонора, я правильно понимаю? — спросил Гринстед.
— Нет. Дочь терпеть не могла эту картину — ненавидела ее. Она пришла в галерею Фолкондейла, чтобы установить подлинность, и сказала, что лучше бы ее сожгли сразу же, как написали. Больше она ничего не сказала. Возраст у нее просто невероятный — должно быть, лет сто. О, и он показал мне удивительное письмо…
— А что насчет остального?
— Ах. Маленькая бронзовая фигурка, около фута высотой. Своего рода французский символист, полагаю, так бы вы это назвали. Обезьяна или примат, я вечно забываю, в чем разница, сидит и протягивает лапу в мою сторону или, знаете, к фрукту какому-то или ещё чему. И с таким же выражением. Абсолютная дикая алчность и жестокость. Смотреть жутко на эту штуку — уверен, от такой любому станет не по себе. Но вылеплено отлично, знаете, каждый волосок, каждый маленький ноготок на месте, безупречно. А в теле такое напряжение и энергия — того и гляди набросится и выцарапает тебе глаза… Жуткая штуковина, честно. Но блестяще сделанная.
— И кто же ее сделал?
— Марк-Антуан Дюпар. Когда-нибудь слышали о нем?
— Вообще-то да. Второсортный символист, как вы выражаетесь. Крупный был тираж, этой бронзовой фигурки? Много их было?
— Я бы удивился, окажись там и другие. Экземпляр был один единственный.
— А хвост есть?
— Да, кажется, хвост был. Обернутый вокруг ног.
— Тогда это обезьяна.
— А, так вот в чем разница? Ну, значит, обезьяна.
Приглашенный профессор филологии с трудом поднялся на ноги, слегка покачиваясь.
— Доброй ночи, господа, — сказал он. — Очень приятный вечер. Большое спасибо. Не будет ли кто-то из вас так любезен… я забыл, где моя комната… я был бы очень благодарен проводнику или, по крайней мере, укажите мне направление…
На мгновение он чуть не лишился равновесия, схватившись рукой за каминную полку, чтобы не упасть. Один из молодых людей вскочил и предложил свою помощь. Капеллан встал, чтобы пожать профессору руку, библиотекарь последовал его примеру, и потребовалось не меньше двух минут, чтобы надеть на старика его пальто и увести из Старшей Комнаты Отдыха. Библиотекарь снова посмотрел на огонь.
— Может подбросить еще дровишко, как считаете? — спросил он, хотя явно думал, что это будет несусветной тратой.
— Похоже, эти бревна из можжевельника? — сказал Гринстед.
— Это, сэр, последняя крупная партия товара из лесного фонда колледжа в Уэльсе. Земля теперь продана, мне очень жаль это говорить.
Никто не произнес ни слова. Библиотекарь почти беззвучно вздохнул, вынул из корзины самое маленькое полено и подтолкнул к краю костра.
— Ну, мне нужно убедиться, что профессор нашел свою комнату, — сказал он. — Спокойной ночи, джентльмены.
Он вышел, и в комнате воцарилось молчание.
— Я тоже пойду, — помолчав, сказал старый капеллан. — Думаю, мне пора ехать. Спокойной ночи, Хорли. Спокойной ночи, сэр, — сказал он Гринстеду.
— Спокойной ночи, э-э… хм, — добавил он, обращаясь к оставшемуся парню, который встал, чтобы пожать ему руку, затем кивнул Хорли и Гринстеду и вышел вслед за стариком.