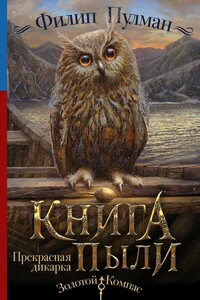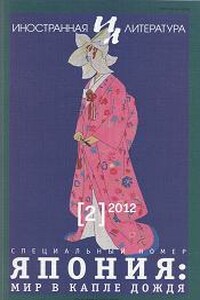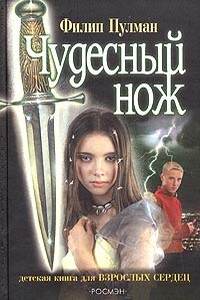В трех милях вверх по Темзе от центра Оксфорда, вдалеке от людного участка реки, где Иордан, Габриэль, Баллиол и еще пара дюжин именитых колледжей состязались за первенство на веслах, – в общем, там, откуда город казался лишь толчеей башен и шпилей, вздымающихся над туманным лугом Порт-Медоу[2], – стоял монастырь Годстоу[3], где кроткие монахини предавались своим богоугодным делам; а напротив монастыря, через реку, расположился трактир «Форель».
Трактир, привольно раскинувшийся на берегу, был старый, каменной кладки, большой, но уютный. Над рекой тянулась терраса, где расхаживали павлины (одного звали Норман, другого – Барри), бессовестно подкрепляясь закусками со столиков и время от времени задирая головы, чтобы испустить свирепый и бессмысленный вопль. Имелся в трактире и закрытый бар, где местные сливки общества, если можно так назвать университетских профессоров, собирались, чтобы выкурить трубочку за кружкой эля; и бар открытый, где лодочники и батраки с окрестных ферм посиживали у камина и поигрывали в дартс, сплетничали за стойкой, заводили шумные споры или просто потихоньку заливали глаза; имелась кухня, где жена трактирщика каждый день готовила бычью ногу на вертеле, вращая его над очагом при помощи хитроумной системы цепей и блоков; и, наконец, имелся мальчик на побегушках, Малкольм Полстед.
Малкольм – одиннадцати лет от роду, рыжий, невысокий и крепко сбитый – был сыном трактирщика, единственным ребенком в семье. Он вырос любознательным и дружелюбным, и в улверкотской начальной школе[4], куда он ходил, всего за милю от дома, друзей у него хватало, но все-таки больше всего Малкольм любил играть сам по себе, со своим деймоном Астой. У них была лодка – каноэ с гордым именем «La Belle Sauvage» – что по-французски означало «Прекрасная дикарка». Один приятель-весельчак решил, что выйдет забавно, если переправить «v» на «s», и «Дикарка» превратилась в «Сосиску». Малкольм попытался закрасить царапины и некоторое время терпеливо трудился, но после третьего слоя краски рассвирепел и столкнул того придурка в воду, после чего они заключили перемирие.
Как и всякому сыну трактирщика, Малкольму приходилось помогать родителям: мыть посуду, разносить полные тарелки и кружки и забирать со столиков опустевшие. Это его ничуть не огорчало: работа есть работа. Только одно портило ему жизнь – судомойка Элис, высокая худющая девица с темными волосами, которые она зачесывала назад и собирала в жидкий хвостик. Ей было всего пятнадцать, но на лбу и в уголках рта уже наметились складки – так часто она хмурилась от досады на саму себя. Малкольма она принялась дразнить с первого же дня, как устроилась на кухню: «Эй, Малкольм, а как твою подружку звать? Что значит “нет подружки”? А с кем это ты гулял вчера вечером? Ну и как, поцеловал ее? Ты что, еще ни разу не целовался?» Он долго старался не обращать внимания, но в конце концов не вытерпела Аста: накинувшись на деймона Элис, она швырнула этого тощего галчонка прямо в лохань с мыльной водой и принялась кусать и трепать, пока Элис не завизжала и не запросила пощады. Потом она, конечно, нажаловалась матери Малкольма, но та заявила: «Поделом тебе! Не жди, что я тебя пожалею. И впредь держи свой бесстыжий язык за зубами».
С тех пор Элис помалкивала. Они с Малкольмом старательно не замечали друг друга: он ставил стаканы на сушилку, она брала их и мыла, а он вытирал и нес обратно в бар – и все это в полном молчании, не обменявшись ни словом, ни взглядом. Малкольм не то что говорить – даже думать о ней не желал.
Но вообще трактирная жизнь была ему по душе. Особенно разговоры, которые иногда удавалось подслушать. Интересно было все, о чем бы ни толковали завсегдатаи, – о продажных чиновниках из Комиссии по очистке рек, о правительстве, которое, очевидно, состояло сплошь из беспомощных идиотов, или, что было лучше всего, о философских материях. Например, что старше – Земля или звезды?
Беседы такого сорта порой настолько его захватывали, что, устав стоять с пустыми стаканами в руках, Малкольм пристраивал их на стол и встревал в разговор – но сперва непременно прислушивался и старался вникнуть. Многие ученые из университета, да и прочие посетители знали его в лицо и по имени и не скупились на чаевые, но Малкольм никогда не стремился разбогатеть: деньги, полученные от чужих щедрот, казались ему милостью судьбы, он привык считать себя везунчиком, и впоследствии это пошло ему на пользу. Будь он из тех мальчишек, к которым прилипают клички, его наверняка прозвали бы Профессором, но Малкольм был не из таких. Когда его замечали, он людям нравился, да только замечали его нечасто, – и это тоже оказалось к лучшему.
Еще один мир, в котором Малкольма считали своим, лежал по ту сторону реки, сразу за мостом, до которого от трактира рукой было подать, – в серых каменных зданиях, среди зеленых полей, ухоженных садов и огородов монастыря святой Розамунды