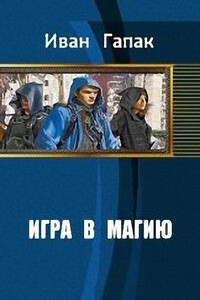Посвящается Садеку Чубеку
Он увидел, что солнечные лучи уже отлетели от кроны померанцевого дерева и сумерки окутали грейпфруты, (писавшие над бортиком бассейна; струя, вытекавшая из круглого каменного стока, разбегалась рябью по поверхности переполненного бассейна, и вода уже начинала переливаться через край [1].
Он только что вышел из комнаты, и сердце его громко стучало. Он знал, что хочет скорей уйти отсюда и не смотреть больше на эту дверь (а на двери этой был человечек – он сам когда-то нарисовал его кусочками известки, отколупнутыми от стены), хочет забиться в свою комнату и хорошенько обо всем подумать. Ведь если не сегодня ночью – то когда же?
И там, в комнате, из-за старых, пропитанных пылью и копотью занавесок, он смотрел и смотрел на сгущавшуюся темноту ночи.
Вкус отлетевшего сна еще ощущался во рту, слышался лай собак, пахло хлевом, было темно, и, когда они вышли из деревни, кругом была такая же непроглядная тьма. Дороги шла вверх, и он стал задыхаться и отставать от матери. Мать на него прикрикнула, остановилась у обочины и стала ждать, пока он подойдет. Он задыхался все сильней и снова отстал от матери. Мать опять прикрикнула на него и снова осталась ждать у обочины, пока он не подошел. И они снова пошли, и он все задыхался и снова не поспевал за матерью…
Дорога была пуста; поле оставалось позади. Далеко внизу у подножия горы виднелась их деревня, над которой висела узкая серая полоса пыли и дыма. Дорога поднималась вверх и поворачивала, а за спиной уходила вниз, через поля, и терялась за деревней у изгиба горы, а впереди все поднималась вверх и поворачивала – и вот пройденная дорога уже скрылась за пригорком, а та, что перед ними, спряталась между холмами. Они шли по пустынной дороге, и слышно было, как под ногами шуршат и перекатываются камушки. Запах ночной земли и кустарника, покрывавшего холмы, висел в воздухе. Он все задыхался и отставал от матери, а та останавливалась у обочины, поджидая его… Солнце уже стояло высоко и вовсю палило. Он шел за матерью, и ее пропыленная складчатая юбка-шалите [2] раскачивалась на ходу из стороны в сторону. И вот перед ним, по ту сторону уже тронутых осенью деревьев, покрывавших глиняные склоны холмов, возник город – купола, крыши домов, – раскинувшийся под голубым небом прямо посреди степи. Потом город был по обе стороны дороги, а он шел за матерью.
Ночь заполняла комнату. Из кладовой для угля с бездверным проемом в стене, делавшим ее черной и пустой, как бы лишенной пространства, доносился легкий шорох. Он помнил, что у него есть только одна ночь. Его взгляд был прикован к переплетениям нитей старого паласа, освещенного кое-где пятнами света: в комнатах напротив ярко горели лампы и их свет, выбивавшийся оттуда во двор через темные сетки форточек и оконные решетки, проникал и в его окошко. Сегодня ночью… но сейчас еще рано. Он все еще колебался. А если он не откроет дверь, если он не испортит эту штуковину, не сломает – если не сломает, что ему тогда делать?
Мечеть была большая, небо – голубое; огромные, с пожелтевшей листвой деревья мощно раскинули во все стороны свои старые узловатые корни. У водоема совершали омовение какие-то люди, на помосте стояли молящиеся, кто-то шел через двор, а он смотрел на все это издалека, сидя рядом с матерью под аркой шабестана [3].
Он очень устал и был словно во сне. В небе резвились голуби, мечеть казалась ему незнакомой, солнце слепило глаза, а тростниковые циновки на полу шабестана были сплошь в одинаковых квадратиках… Так хотелось, чтобы мать дала еще кусок хлеба, но она завернула хлеб обратно в узелок и заткнула под пояс.
Потом они поднялись и зашагали снова. Они вышли из мечети и шли по узким, извилистым улицам, вымощенным булыжником. И когда они шли, пустынные и пыльные проходы между кирпичными стенами сужались и снова расступались, становились то высокими, то низкими, они надвигались и оставались позади, а он шел за матерью… Улицы заворачивали, становились то шире, то уже, а они шли и шли вдоль глухих кирпичных стен. Иногда они проходили мимо мусорных куч, иногда пересекали перекресток, где начиналась боковая улица, и шли дальше. На некоторых воротах были выпуклые металлические нашлепки. Мать останавливалась и стучала в них молотком, и тогда дверь отворялась, а потом снова захлопывалась. И они шли дальше. Они все шли и шли, а солнце уже освещало только крыши домов и верхушки стен. Л потом ночь охватила шабестан, ночь, темная и глухая, как никогда. Циновки сладко пахли землей, снаружи доносились волны невнятного гула, как будто ветер шумел в деревьях. Он вслушивался, вглядывался в темноту и снова уходил из нее, он видел в темноте – и ничего не видел, и снова погружался во тьму, и снова выходил из нее, и петушиные крики удерживали его между двумя мирами, пока не раздался призыв на утреннюю молитву.
И каждый следующий день, который еще вчера был завтрашним, в точности повторял вчерашний. Но вот однажды они из одной узкой и длинной улицы повернули в другую, подошли к какой-то двери, и, когда они постучали в эту дверь, кто-то вышел. Он смотрел на окошко над дверью, а мать что-то сказала тому человеку, и они прошли через далан во двор и там остановились.