Рецензия на поэму Николая Гумилева «Мик»
Н. Гумилев, верный рыцарь и паладин «чистого искусства». В наше безбумажное время так приятно взять в руки книжку, напечатанную тонким шрифтом на бумаге чуть ли не «слоновой»: «Мик», африканская поэма. Слоновая бумага, к тому же, вполне гармонирует с содержанием африканской поэмы: на страницах ее то и дело проходят перед нами слоны, бегемоты, павианы и прочие исконные обитатели стилизованных лесов Африки. Стилем средним между лермонтовским «Мцыри» и бушевским «Максом и Морицем»[1] автор живописует, как
Неслись из дальней стороны
Освирепелые слоны.
Открыв травой набитый рот,
Скакал, как лошадь, бегемот,
И зверь, чудовищный на взгляд,
С кошачьей мордой, а рогат…
Здесь чувствуется, конечно, не только лермонтовский захват, но и самобытное творчество: там — «пустыни вечный гость, могучий барс», здесь — рогатая кошка. Не потому ли, кроме «Мцыри», здесь вспоминаются и классические строки из «Детского зверинца в 48 картинках»:
Есть зверей рогатых много
И в пустыне, и в лесу;
Но из всех — у носорога
Одного рог на носу.
А когда два героя поэмы, мальчики Мик и Луи, негритенок и француз, бегут в пустыню (точь в точь как Мцыри!) и испытывают ряд приключений в африканских лесах, предводимые павианом, то радостно приветствуешь старых детских знакомых, вспоминая рассказ о приключеньях и шалостях,
Wie zum Beispiel hier von diesen,Welche Max und Moritz hiessen
[2].
Конечно, замысел автора отнюдь не юмористический, а самый что ни на есть «романтический»: мальчик Луи охвачен неудержимым стремлением за пределы предельного; сделавшись царем павианов, он не удовлетворяется этим высоким достиженьем, он желает стать царем леопардов, а, быть может, и рогатых кошек — и погибает, оплакиваемый Миком:
«Зачем, зачем, когда ты пал,
Ты павиана не позвал?..»
Завыл печальный павиан,
Завыла стая обезьян…
Так услаждает нас автор чистым и глубоким искусством, не запачканным повседневностью и современностью: поэма являет собою пример и образец того искусства (чистейшей воды!), которому должен верно служить поэт, поклоняясь вечному, а не временному, что бы ни творилось вокруг. Старый мир рушится; новый рождается в муках десятилетий; А. Блок, А. Белый, Клюев, Есенин откликаются потрясенной душой на глухие подземные раскаты, — какое паденье! какая профанация искусства! И утешительно видеть пример верности и искусству, и себе: в годы мировой бури поэт твердой рукой живописует нам, как Дух Лесов сидит «верхом на огненном слоне» и предается невинному развлечению:
То благосклонен, то суров,
За хвост он треплет рыжих львов.
Обидно было бы за поэта, если бы эти образы чистого искусства таили в себе иносказанья, если бы «огненный слон» вдруг оказался, например, символом революции, а «рыжие львы» — политическими партиями. Но мы можем быть спокойны: прошлое Н. Гумилева является ручательством за его литературное настоящее и будущее. Десятилетием раньше, в годы первой русской революции, этот начинающий тогда поэт, верный сладостной мечте[3], рассказывал в книжке стихов «Романтические Цветы» все о том же, о том, как
Далеко, далеко на озере Чад
Изысканный бродит жираф
[4].
Этот «изысканный жираф» поистине символичен, он просовывает шею из-за каждой страницы стихов Н. Гумилева. Мы можем быть спокойны: искусство стоит на высоте. Пусть мировые катастрофы потрясают человечество, пусть земля рушится от подземных ударов: по садам российской словесности разгуливают павианы, рогатые кошки, и, вытянув длинную шею, размеренным шагом «изысканный бродит жираф».
1918 год[5]



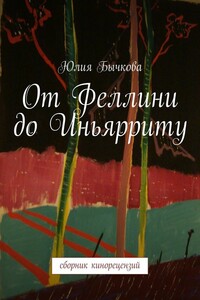


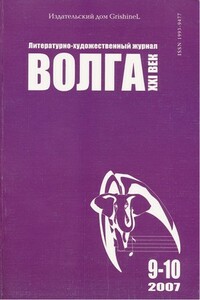
![Попал, так попал [Гексалогия]](/storage/book-covers/b3/b3e9b77f4e8ace2695cfd09956c510ad3b80fc71.jpg)

