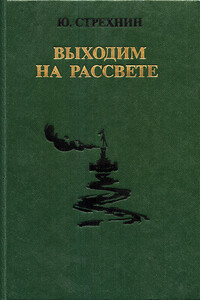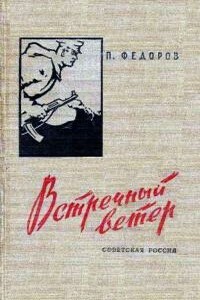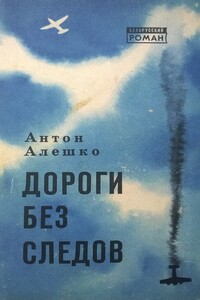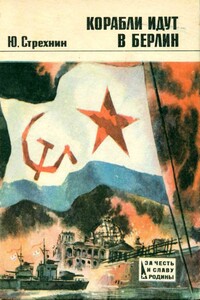Мягкий, недавно выпавший, неулежавшийся снег приятно поскрипывал под сапогами Кедрачева. Снег выпал ночью, укрыв наконец землю, давно окаменевшую от первых ноябрьских морозов.
Кончив дневалить и доложив о том взводному командиру, унтеру Петракову, Ефим Кедрачев стоял на крылечке казармы, покуривая. Под утро очень хотелось спать. С нетерпением ждал минуты, когда, крикнув во все горло «Подъем!», сдаст дневальство и заберется на свое место на верхних нарах, на похрустывающий соломой тюфяк. Но, после того как разбуженная им караульная рота поднялась и в казарме началась обычная утренняя суета, Кедрачеву спать расхотелось — не от шума, а от беспокойных мыслей. Его вместе с другими солдатами, признанными из-за фронтовых ранений временно негодными к строевой службе, Петраков водил в госпиталь. Доктора расспрашивали, болит ли грудь, куда осенью прошлого, пятнадцатого года вошла германская пуля. Не велев надевать рубаху, доктора завели Ефима в темную комнату и поставили между двумя не то железными, не то стеклянными загородками, противно холодившими тело, если задеть. Велели стоять смирно и дышать ровно, потом что-то щелкнуло, один доктор, молодой, стал потихоньку двигать передней загородкой, а другой, седенький, в очках, внимательно глядел в нее и потихоньку хмыкал, покачивал головой, потом сказал: «Еще не зарубцевалось. Организм молодой, справится, но нужно время…» Зажегся свет, Ефиму велели выйти из-за загородок. Старый доктор, еще раз глянув на него, сказал молодому. «Как сложен! Богатырь, красавец. Жаль, если опять туда… Бессмысленность, черт возьми!» — и, вздохнув, велел Ефиму: «Одевайся, солдат!» — а молодому кивнул: «Запишем ему продление».
Бессмысленность… Это слово, брошенное старым врачом, как впечаталось в память Ефима. И верно, какая и кому польза, что его рано или поздно опять отправят на позиции? Хотя доктора и записали продление, и Петраков обещал: «Ты, паря, солдат справный, я тебя, бог поможет, придержу». Правда, он тут же намекнул, что рассчитывает на благодарность. Но чем, с каких доходов может он отблагодарить унтера? А ведь от Петракова, наверное, и в самом деле сколько-нибудь зависит, остаться ли Кедрачеву в караульной роте при лагере военнопленных за тысячи верст от фронта или опять загреметь туда с очередной маршевой ротой.
Обо всем этом думал Ефим, стоя на крылечке и ладя самокрутку из казенной махорки и тщательно, во много раз сложенной губернской газеты «Сибирская жизнь». Газету он купил вчера, когда ходили в госпиталь, купил, несмотря на насмешки товарищей: «И охота две копейки выбрасывать!» Газету Ефим прочел внимательно, но особо любопытного в ней не нашел: на фронте без перемен, а всякие торгово-промышленные новости — в них интереса мало. Ну да ладно. Есть хотя бы бумага для курева.
Закурив, Кедрачев спустился с крылечка, под сапогами мягко хрустнул молодой снег.
Вспомнилось — в прошлом году в это время в Карпатах тоже лежал снег. Холодно было в окопах. Да и в землянке не согреешься, хотя и сложили печурку. Но где взять дров? Позиции на голом каменистом склоне, а до леса — попробуй сходи, если вся дорога у неприятеля на виду. Ох и померзли тогда!
Карпатский снег… Чуть не застыл на нем, когда ранило. Случилось это после того, как погнали в атаку на австрийские окопы. Забили оттуда пулеметы, атака захлебнулась. Говорят, наши артиллеристы снарядов не имели, чтобы разбить те пулеметы. Полдня пролежал тогда на снегу почти без памяти. А потом — полевой лазарет, долгий путь в санитарном вагоне, где чуть не отдал богу душу — однажды в забытьи услышал, как сестра милосердия, остановившись возле, сказала другой: «Не жилец, не довезем. А жаль — такой молоденький…»
И все-таки Ефим Кедрачев выжил. Крепок оказался сибиряк. Не свалила его безглазая, а ведь к ране добавились и воспаление легких от простуды на снегу, и тиф.
Повезло Кедрачеву! Перво-наперво выжил. Как обрадовался, увидев, что везут их уже по Сибири, все ближе к родным краям! И вот — станция, где поезд остановился для разгрузки, — Ломск! Привезли, можно сказать, прямо домой. Задвинули носилки в санитарный автомобиль. Впервые в жизни тогда проехался он в автомобиле — до войны в Ломске их и не видывали. Первое, что он поспешил сделать в госпитале, — это известить сестренку Олюньку. Обрадованная, она тотчас же прибежала…
Повезло Кедрачеву и после того, как встал на ноги. Из команды выздоравливающих его определили в караульную роту лагеря военнопленных, построенного на пустыре возле вокзала. И вот уже три месяца он в этой команде. Поначалу казалось чудно — каждый день видеть тех самых австрияков, любого из которых он мог бы запросто пропороть штыком, доведись встретиться в рукопашной, и любой из которых мог так же запросто застрелить его, только попадись на мушку. А пригляделся — вроде люди как люди, такие же солдаты мобилизованные, только обмундировка другая.
Да, чудно… Не сразу привыкнешь. Врагами были, а теперь — почитай, приятели. Бывает, просят австрияки чего-нибудь с базара принести или водочки в городе раздобыть — отчего же не удружить? За благодарностью не стоят. Деньга у них кое у кого водится, люди мастеровые: кто часы чинит, кто с офицерских жен портреты рисует, кто портняжит или по сапожному делу. Не подрядится ли кто сестренке ботинки стачать? Совсем девка обносилась. А купить — попробуй! Цена по военному времени — ой-ой! Да и не сразу найдешь подходящее. А Олюньке удалось, по случаю, достать и подошву и кожу. Говорят, в лагере один австриец очень фасонисто шьет. Ольге восемнадцать, самая пора красоваться… Пусть у нее будут ботиночки «венский шик». Столковаться сейчас с сапожником, а потом к сестре сбегать, мерку взять и материал. У Петракова отпроситься — отпустит.