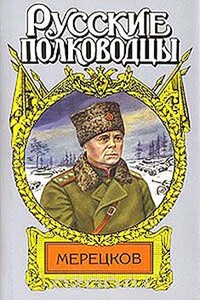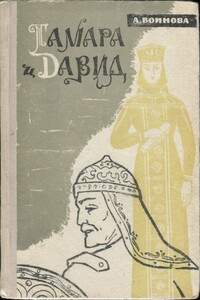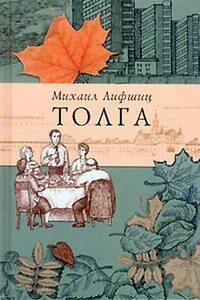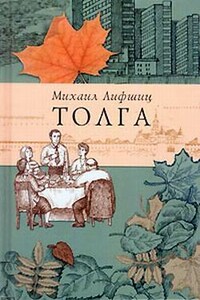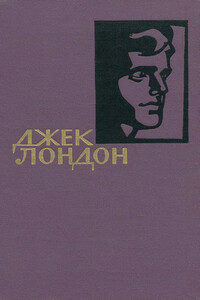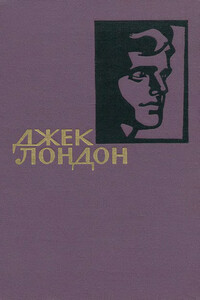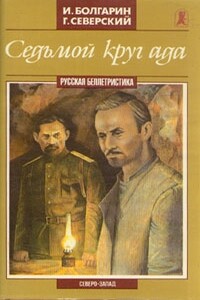Закрывшись в просторном, переоборудованном под кабинет номере феодосийской гостиницы «Астория», Деникин никого не принимал. Бдительные адъютанты ревностно стерегли его одиночество. Верховный главнокомандующий составлял важный документ.
В который уже раз он нервно комкал едва тронутые чернилами листы и опять писал, подбирая слова, которые могли бы с наибольшей точностью выразить мысль. Но слова, ложившиеся на бумагу, казались ему или слишком казенными, не передающими его душевное состояние и величие духа, — а именно это должен был вынести из его письма генерал Драгомиров, — пли поражали беспомощностью слога и неприкрытой горечью, а уж об этом Драгомирову не следовало догадываться вовсе.
Тогда он взялся за приказ, который нужно было приложить к письму: военный стиль документа скрывал в себе все, что не относилось к делу.
Драгомирову, старейшему из находившихся в Крыму генералов, Деникин приказывал созвать в Севастополе военный совет для избрания достойного преемника главнокомандующего вооруженными силами Юга России.
Явившийся на вызов старший адъютант смотрел на него печально, будто соблюдая траур. Главковерх распорядился перепечатать в срочном порядке приказ и невесело усмехнулся: где-то в глубине души у самого возникло ощущение, словно присутствует на собственных похоронах.
Адъютант, офицер-первопроходник, не уходил: с Деникиным, которому передал верховное командование сам Корнилов, они начинали «ледяной поход».
— Ваше высокопревосходительство, судьба армии, судьба отечества…
Деникин устало махнул рукой:
— Идите. Судьбу России отныне будет решать военный совет.
Оставшись один, верховный подошел к окну. На феодосийском рейде против окон «Астории» стояли военные корабли. Деникин усмехнулся: «Военный совет?» Мысленно выстроив перед глазами генералов, претендующих на его место, он не без удовольствия подумал: «А ведь трудненько придется вам на совете. Обвинять главковерха во всех тяжких несложно, господа. Но вот вам возможность — посмотрите друг на друга и скажите, есть ли среди вас более достойный?»
Деникин вернулся к столу и быстро, слово к слову, строку за строкой, написал письмо генералу Драго-мирову:
«Милостивый государь. Абрам Михайлович!
Три года российской смуты я вел борьбу, отдавая все свои силы и неся власть, как тяжкий крест, ниспосланный судьбой. Бог не благословил успехом войск, мною предводимых. И хотя вера в жизнеспособность армии и ее историческое значение мною не потеряна, но внутренняя связь между вождем и армией порвана, и я не в силах более нести ее. Предлагаю Военному Совету избрать достойного, которому я передам преемственно власть и командование.
Искренне уважающий Вас
А. Деникин».
Верховный лицемерил: власть передавать он не хотел никому, был уверен, что избранником будет по- прежнему он, надеялся, что уцелевшие после новороссийской катастрофы, укрывшиеся в Крыму войска Добровольческой армии он переформирует и вновь поведет за собой. Пусть только военный совет подтвердит, что не виноват он в тех поражениях, которые нанесла ему Красная Армия, пусть выразит полное, обновленное доверие своему главнокомандующему, и тогда замолчат те, кто чернит его имя. Клеветников и завистников много, и первый из них, мечтающий о верховной власти еще со времени своего командования царицынским фронтом, — Врангель. Отстраненный от дел и высланный в Константинополь, он и оттуда в своих памфлетах поносит верховного, всенародно объявив его бездарным полководцем.
Интригует, по слухам, и Слащев. Жесткий, смелый генерал удержал Крым. Под Перекопом сам водил в контратаку цепи юнкеров Алексеевского училища, расстреливал отступающих солдат, вынес смертные приговоры десятку боевых офицеров, но Крым отстоял. Умница, и тоже рвется к верховной власти…
Верховный опять подошел к окну. Над бухтой повисли низкие штормовые тучи. Застучали по стеклам тяжелые капли дождя. С дождями и ветрами шел по земле месяц март трудного двадцатого года.
Обильные дожди сделали свое дело — вместе с ними на фронт под Перекопом пришло затишье. В клейкой грязи застревали обозы. Захлебывались в мутной воде окопы. Проклинали лихую судьбу солдаты.
Притих теряющийся в мокрой дымке одноэтажный Джанкой; унылые станционные постройки, на которые глядели окна вагонов личного поезда генерала Слащева, навевали своим обреченным видом тоску.
Настойчивый шепот дождя преследовал Слащева. Он почти не оставлял жарко натопленного салон-вагона, и все же ощущение тупой промозглой сырости не покидало его.
Избрав Джанкой местом для своего штаба, он иногда чувствовал, как поднимается в нем ненависть к этому грязному, запущенному, раздавленному страхом городишку. Сколько же придется сидеть здесь? Он тоже участвовал в походе на Москву. Два года шел к ней — желанной, недоступной, великой. Верил: под малиновый звон колоколов и торжественное пение труб войдут белые полки в древнюю столицу государства Российского. Не вошли! Но разве и тогда, при всеобщем бегстве войск Деникина, он, Слащев, не оказался более стойким и умелым, чем все другие генералы?
Шиллинг должен был удержать Одессу, Май-Маев- скин — Харьков, Кутепов и Романовский — Новорос-сийск… Что они удержали? Что отстояли? Все отдали большевикам. Только он, Слащев, отстоял Крым. А что теперь? Сбежавшие сюда генералы во главе с Деникиным тщатся сохранить хорошую мину, а игра-то уже и не игра — катастрофа…