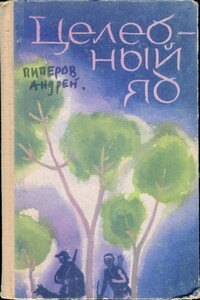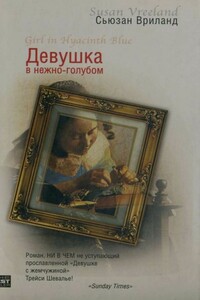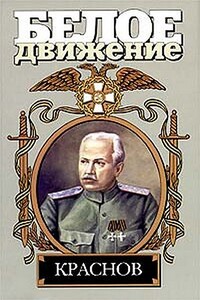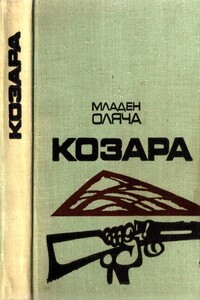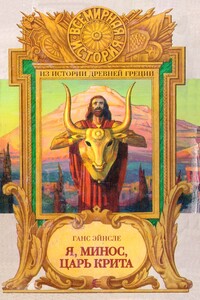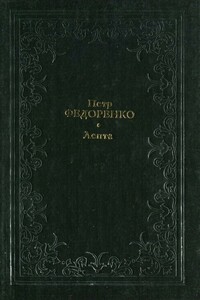БАШНЯ
От Крестовской заставы эта башня как морок. От солнца, от пыли, от человечьего пара — марево вокруг, тонкий туман. Торчит она, ненужная, с глазом-часами, и кажется: два ее боковые крыла до мостовой не доходят, в облаке реют, известковая белая пудра взмывается, как седая волна, то тут, то там вверх на красную стену. Идет ремонт.
Не избыть лесов этой башне видно с тех древних времен, как из шатровой ее крыши с палаткой — двойней, царь Петр, в пылу вечных реформ, приказал вытянуть к небу обсерваторийку для школ, навигацкой и математической.
Ремонт идет в башне: и была-ль революция, не была — все тот же древний обычай рабочего. Не высмотрев верного места, примоститься под самое, что ни есть, неверное. Где расселась кирпичная кладка и того гляди стряхнет с себя белые надоконные «вавилоны» неизвестного мастера — там гляди двое — трое. Уперлись в стену ногами в портянках, да никак ее ломом…
А над лесами, по покатой настилке, нет-нет, для потехи народа, будто Нижинский в своем балете, взмывая руками и чубом белым от извести, как вихрь промелькнет чей-то парень.
Под башней сапожники. На обрубках, тычках, кирпичах, плечо к плечу, как опенки. Щурясь от пыли, ладят, чисто пугало в огороде, на какой-то сподручный костыль драные, страшные сапоги. Сверлят, загоняют шипы — гонят во всю «холодную починку». Побелены известковою пылью, каким-то средневековьем, нерусским цехом, возникают сапожники вокруг странной башни, где, шептались предки — закладены чернокнижные книги, им же дано исчисление во Стоглаве…
Над «холодной починкой» куражатся рожи: из-за досок забора, границы ремонта, выпинаются Петрушки зубастые, да носастые, яркие, как цветки — все курильщики папирос «Моссельпром».
Сапожники не прежние: из мальчишек в подмастерья, из подмастерья в «самого». Те, один как другой, тянули дратву, — та же сноровка. Советский подбашенный сапожник изловчается каждый по-своему. И кто же его знает, кто он сам? Одного все зовут — граф. И руки те-ж, просмоленные, и на такой же страшило, сапог-ломовой, гонит латку, а, изъясняясь про Китай, поминает редчайшие книги «своей» библиотеки.
За сапожным — цех селедочный, бабий. Лотки копченой лакированной селедки с «поплевом», и натертой маслом для «прелести» и ведрами маринад, где всех специй — лавровый лист на серебряной чешуе — подкинулись к самым к рельсам трамвайным.
И можно-б отсесть, да так веселей. А из вагона кажется проезжему седоку, что едет он по живому: по бабам селедочным да по бабам яичным… Метнулись и эти под самый трамвай с корзинами розоватых и смуглых, как в загаре, яиц.
Тяжко охают вагоны с прицепом, грохоча и пугая раскачкой, но слышно как-раз под башней не часто давят людей. За бабьей цепью ряды: колбасный, мясной, мучной и фруктовый.
В отместку голодному году, когда из-под полы торговали здесь жмыховой дрянью, наглыми белыми буквами по черному полю кичатся у ларьков сейчас сорта хлеба: с изюмом, горчишный, и с маком, и минский и подовый…
— Гражданин, вам кругляшкою, фунтиком, али резкою?
— Это колбасы. Легкое, сердце и печень дымятся кровью в лотках.
— Коль торгуешься за такое за последнее… так ты элемент мелкобуржуазный! Небось не торгуется беднота. Беднота берет для себя, ты для выкормки кабана!
— Арбузы, яблоки, — мерами: винненькое, дешево, гражданин!
И шарахнется знающий: укусишь винненькое — челюстей не разжать, в пору сплюнуть да Мишке отдать.
Цыган ходит с Мишкой: малый Мишка, ребенок. Смокчет соску, заткнутую пробкой, барабанит по пузу, скулит. Объелся винненьких, заболел. И на травку спокойно ему не присесть. Вокруг толпа: Го-го-го! га-га-га! Как человек, сволочь, с покряхтом…
Поют слепые, за них ведет сбор инвалид. Наметанным взглядом определяя чин-звание:
— Гражданин, героям труда! Дамочка, старичкам убогим. И приглушенным словом: Христа ради, мамаша, упокой родителев.
Цветочный ряд. Букеты, фуксии, хризантемы, венки, веники. Тут и ящички с кресс-салатом. Тут пренаглейший парень: — гражданочка, дамочка, хоть алтын, хоть полтинничек, — за травник революции, за произрастанье вождей…
— Ври, да не провирайся!
— Гарантируйтесь на меня. На клумбах вождей пролетариата сам выводил, товарища Жореса сам состригал! Дамочка, гарантируйтесь на меня…
— Не хотитца — вам пройтитца
Там, где мельница вертитца.
Э… ух!
И гармоника, и мальчишки, и жулики.
Слева от башни в мануфактурном ряду развелись китайцы. Не оглянулись лари, как перегнул туда весь мужской покупатель. Набирает один на исподнее канифасу, почему-то вдруг хрюкнет от хохота, подтолкнет к прилавку другого прохожего.
По доносу сунулся милицейский. Постоял, посмотрел как китаец, не моргнув, шелестит, не понять что, на детском своем языке, строго вслух сказал:
— Наличности для штрафа не имеется.
Отошел милицейский — ан наличность тут-как-тут: китаец-то, детский свой шелест, да ка-ак прослоит!
Разворачивал товар мерно, выговаривал крепкое слово в линию бесстрастно и с точностью.
— Научился косой чорт по-нашему!
— Были тронуты, благодарны, роднились.
— Русским словом от интервенции защищается!
И у его революция!
— А на Хитровке, сам видал, тоже граждане, интервенция! Хитровка, ровно нэпманка — побелена и плакат: запрещается сквернословие… и кушин как у нас — для плевков…