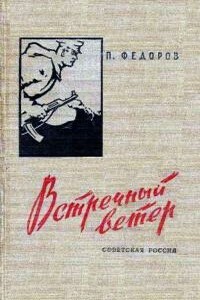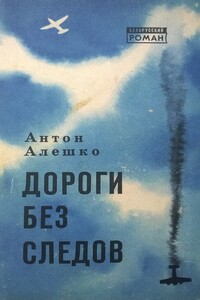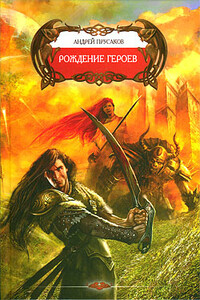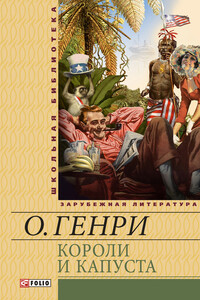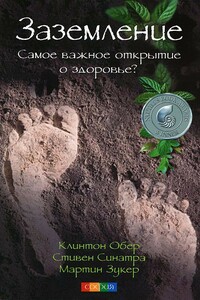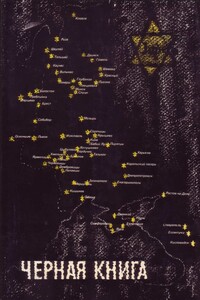1
На платформе плакала женщина. Солдат растерянно прижимал к груди бутылку. Потом зашатались пальто на крюках, дома дрогнули и смешались. Ни меня, ни Вилли никто не провожал. Безразлично я оглядел соседей. Старик уже успел задремать, он раскрыл круглый беззубый рот. Дама вытащила вязанье. Я развернул газету; это было связано со скрипом тормозов, с подушками, полными едкой пыли, с обрывками мыслей: „не успел повидать Макса, как только приеду, надо позвонить Демо…“ Среди „сборной парижской“, среди гангстеров и конференций металась история: забастовки, протесты, трупы, нестройные, неуверенные дожди, несколько капель на разогретом асфальте. Таким казалось мне время.
Я ехал в Брюссель, Вилли кружным путем пробирался в Германию. Он сидел рядом; я видел разгоряченный и недоуменный его глаз. О чем он думал? Я знал, что в партии его ценят, как хорошего подпольного работника. Незадолго до отъезда я увидал его на террасе большого кафе. Он сидел, закрыв глаза: он грелся на солнце, как ящерица.
Я случайно взглянул в окно. То, что я увидел не входило в мой мир. Между Максом и Демо должны были длиться дома, с гребешками дымоходов, с ковриками у дверей, с режущими глаза электрическими лампами. Я увидел коров. Это было в тишине начинающегося вечера. Некоторые, зарыв морды в душистую зелень, дремали. Другие глядели на меня в упор. Я подумал: «почему нельзя дернуть рукоятку тормоза и с головой зарыться в траву?» Я увидел также деревья. Это были густые вязы. В тени, которую они отбрасывали, в неподвижности листвы, в ее. синеве было такое спокойствие, что я поспешил заслониться газетами, синими и призрачными, как дым поезда.
Двадцать лет назад, в осенний, до неприязненности ясный день я бродил здесь с молодой женщиной. Она разыскивала могилу мужа, убитого осенью четырнадцатого года. Сколоченные наспех кресты были сдавлены колосьями. „Просьба не топтать хлеба“. Женщине было девятнадцать лет; когда она подносила к близоруким глазам клочок бумаги с планом местности, ее розоватые холодные пальцы дрожали. Я проклял про себя скаредность крестьян: я тогда еще не знал, как можно жить под одной крышей с историей.
Старик и дама сошли в Сан-Кентене. Теперь мы могли говорить. Вилли повторял: „Необходимо обратить внимание на спортивные организации, не то они захватят молодых…“ Слово „они“ он произносил особенно отчетливо. Я заметил, что рукав его рубашки был тщательно заштопан. Я вдруг подумал, что ничего не знаю о жизни Вилли. Показывая кондуктору билет, он обронил карточку. Я увидел маленькое круглое существо, похожее на мыльную пену. Он сказал: „Документы у меня хорошие. А если схватят…“
Мы расстались в Брюсселе. Нелепо махнув рукой, он пропал в черном пассаже. Газетчики кричали: „Английская нота!..“ В лиловых трубках световых реклам билась отравленная венозная кровь любимого века.
Вилли дал мне адрес своей жены, она жила в предместьи Парижа. Я обещал занести ей советские журналы: она работала над книгой о нефти. Журналов у меня не оказалось, пришлось выписать из Москвы. Я попал к Люци (так звали жену Вилли) месяца два спустя.
Мне открыла дверь светлоглазая девочка. „Здесь живет госпожа Керц?“ Она ответила: „Это я“. Мне показалось, что она не понимает по-французски. Я знал, что у Вилли сын. Можно ли было принять за мать этого робкого нескладного подростка? Проблемы нефти никак не вязались с носками, с передником, замаранным смородиной, с губами, еще припухшими и дрожавшими от стеснения. Она заговорила о крекинге. Вдруг она посмотрела на часы, вздрогнула и сказала: „Простите“, — ей надо кормить ребенка. Она села на табурет и как-то сразу переменилась. Теперь она казалась мне большой и невозмутимой. Черты лица упростились и затвердели. Я сидел отвернувшись. Ее спокойствие меня стесняло. Потом мы говорили о наливных судах. Уходя я сказал: „С Вилли мы распрощались в Брюсселе. Он был веселый“. Она ничего не ответила.
Я шел от нее смутный и растерянный. Жизнь вокруг была чересчур настойчива. Женщина несла чашку молока, полную до краев. Чтобы не расплескать молоко, она слегка покачивалась. Старый рабочий сидел на соломенном стуле. Он не двигался. Он казался кустом, который вырос среди жаровень, кофейников и фонарей. Дети прыгали через веревочку. Их голоса в вечерней тишине были пронзительны до боли. Из окон доносились запах еды, смех, обрывки хриплой дешевой музыки. Душистый горошек на ручной тележке, среди камней, от которых шел зной, стремительно умирал. Оборванец, сидя на мостовой, чесал раскрытую грудь и ругался. Солдат целовал девушку; приподнявшись на цыпочки, она подставляла ему губы и горестно смеялась. Потом заметались огни, дома выросли, люди обступили меня вплотную: это был Париж.
Прошло несколько дней. Я столкнулся с рыжим Карлом на улице. Он сразу сказал мне: „Вилли схватили в Дессау. Он пробовал убежать, сломал ногу. Они его пытали…“ „Они“ — я вспомнил, как говорил это слово Вилли. Я вспомнил также заштопанный рукав рубашки. „Теперь поедет Сасниц, он хороший организатор…“ Я не слушал Карла. Передо мной была девочка с лицом восточного истукана. Она кормила сына Вилли. Я сказал: „Я видел его жену дней пять назад…“ Карл ответил: „Люци давно знает. Разве она не сказала тебе?“ Он вспрыгнул на площадку автобуса. Его зеленоватое лицо задрожало, как в ознобе.