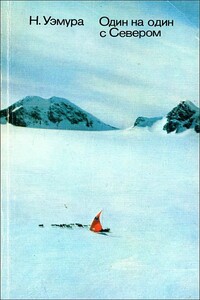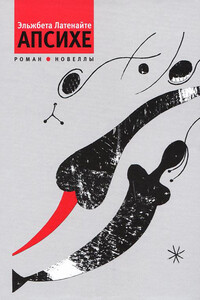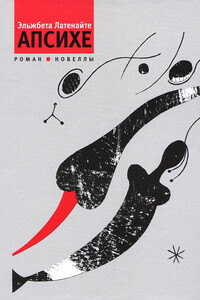Эльжбета Латенайте
Вечное утро фидлера
[1]
Исподтишка, без устали, безоглядно, медленно, со все усиливающимся гулом множество кусков, отломившихся от самого ужасного музыкального произведения, выстраивались над головой. Взглянув вверх, ничего не увидишь, но стоит опустить глаза, как что-то придавливает книзу. Если не хочешь соскользнуть на землю, надо напрячь все силы дрожащего тела и стараться отбить ощутимость множества кусков, приближение которых пронзает и разрывает.
Приближалось не что иное, как вымысел. Все, что здесь было, есть и будет, – всего лишь вымысел. Каждое слово – вымысел пальцем в небо. Что-то, во что случилось уверовать, сильно и нерушимо. Еще один вымысел, разве что на этот раз поближе, посветлее и подолговечнее, но все же – вымысел. А вымысел – это такой каждый рикошет мысли, когда собственное сознание искривляется и, отскочив от бог знает каких привидений или привиденностей, берет и сотворяется, сосредотачивается в целую мысль.
Привидения и привиденности – это все, что вылезает из каждого угла, площадки или ямы, из каждого микрофона или из-за зубов, из-под обложки, корешков пергаментов, языков, и тогда меж пальцев, по перу спускается все с тем же жутким гулом. С каждого амвона и ораторской трибуны все эти вымыслы колют глаза и слух рокочущей, шумной, размахивающей руками жутью. Из-под благородных покровов, за которыми скрываются демиурги, профессора и знатоки – иначе говоря, признанные достигшими.
К ним, трибунам и площадкам, страшно не только приближаться. Если когда возникает желание изречь, сочинить предложение в один из тех микрофонов, сковавший изнутри холод тут же взрывает какой-нибудь глупый вопрос или лепет. Еще никому не удавалось произнести, высловить смысл так, чтобы трибуна не уморила их заранее своей жутью, своим мерзким и ложным предвидением. Она хватает открывшего рот за язык, за руки и виски и втирает – пробует обмануть, что тот ей уже близок. Пробует обмануть, что говорящий претендует на согласие или полемику, на разговор с тем, кто говорил и изрекал слова на трибуне до него.
Своей глупой головой трибуна дурачит великие множества, заманивает верой в то, что говорить можно только с нее, что говорить может только говорящий. Что трибуна, как некая контекстуальность смыслов, принадлежит новому говорящему, сл
о вящему.
Однажды утро занялось и не кончилось. В то вечное утро отец сидел на холодных ступеньках маленькой укромной городской площади. Мимо проходившая группа гонщиков взирала на него сквозь очки с ностальгическими стеклами. Другие прохожие, завидев черную дешевую оправу и пластмассовые стекла, снисходительно улыбались, а гонщикам казалось, что те смотрели сегодняшние соревнования. От этой мысли количество ностальгии в очках гонщиков удваивалось.
Отец держал смычок и играл на его волосе. Он лизал волос смычка пальцами. Отец забыл все произведения, которые, возможно, когда-либо хотел и мог сыграть на самой скрипке. Так было только в то вечное утро. Но ведь, кроме него, у отца больше ничего и не было.
Неподалеку была деревня, в которой жили два человека. Кто-то чаще, чем раз в девять месяцев, сносил и отстраивал там надгробие, а под ним прятал все новых и новых младенцев. Младенцы не были ни человеческими, ни куриными, ни какой-нибудь другой живностью. Когда тот некто – не пройдет и девяти месяцев – прибегал и тайком вынимал то, что раньше оставил, а взамен укладывал нового рожденного, тут же впопыхах прибегал второй деревенский человек. Когда гроб, подрагивая, опускался в яму, он рвался за ним, в прорву.
Тем временем первый деревенский человек все видел, стоя на крыше избы и опершись спиной о трубу. Второму деревенскому человеку все никак не удавалось запрыгнуть в яму вслед за гробом, его каждый раз удерживали руки бессочувственных плакальщиков. Плакальщики – часть его самого, остающаяся здесь всякий раз, когда примчавшийся рвался за падающим гробом. Пока плакальщики усмиряли его, извивающегося, гроб быстренько заваливали землей. После чего второй деревенский человек возвращался в избу и от безысходности отрывал занавеску.
Первый деревенский человек, стоявший на крыше, рыдал, закрыв лицо руками, видя, как второй бессильно, с болью и криком рвался за гробом и, с трудом удерживаемый, предпринимал новые отчаянные попытки. Когда шум стихал, первый, еще немного посидев на крыше, ждал, пока высохнут слезы и лицу вернется нормальный цвет, чтобы второй при виде его не волновался и не расстраивался.
Спустившись, возвращался в избу и вежливо здоровался со вторым. Тот говорил, что ходил погулять в поле, по холмам, где растет облепиха. Первый, стараясь не выдать, что все видел с крыши, говорил, что сам только что оттуда, где растет облепиха, но не заметил, чтобы трава сегодня была затоптана или примята. Второй объяснял, что был не в привычном месте, а ушел немного дальше.
Тогда второй человек спрашивал, не помнит ли первый, где нитки. Первый приносил нитки единственного когда-либо имевшегося у них цвета и спрашивал, как же это занавеска опять оторвалась. Второй объяснял, что не видел, наверняка она зацепилась, когда открывали окно. На том разговор и заканчивался.