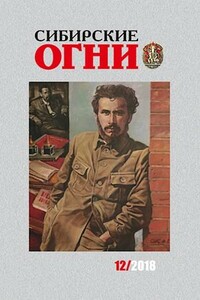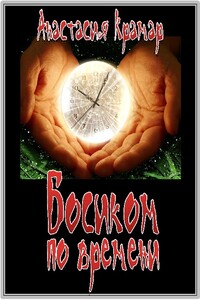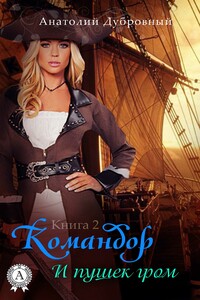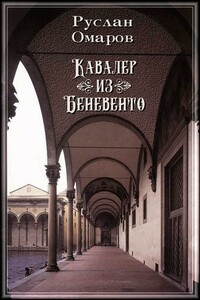Позднесоветский мистицизм, насколько я его застал, представлялся мне неряшливым в своей эклектичности. С одной стороны, марксистские жрецы окружили свое учение таким количеством кривых зеркал, что уже сами с трудом угадывали в получившемся нагромождении отражений прежний Трехначальный Завет. С другой стороны, вихри пятилеток окончательно похоронили его здание под налетом хаотических культовых рецепций. Никто ни во что толком не верил уже и при Леониде Полиастре, а когда он вознесся, краткие царствования следующих басилевсов окончательно смутили партийные умы. В провинциальных кабинетах зажили автохтонные идолы, из-под ленинских скрижалей робко выглянули иконные лики, и золотые корешки по-новому замерцали в огне зороастрийских лампад. Сейфы-божницы наполнились трехглазыми лягушками и жуками-скарабеями, а референтуры — диковатыми бородачами с дипломами истфака МГУ (мне почему-то казалось, что от них пахнет влажным пеплом). Словом, всюду были болезненные признаки упадка веры.
В это время в Согдиане раскопали остатки полиса и крошечный храм Атаргатис, сирийской богини плодородия. Из одного Междуречья она перекочевала в другое, неся свои кормящие груди и рыбий хвост сквозь земли и народы. Люди награждали ее новыми именами и сооружали ей священные пруды под каменными сводами. Она пришла сюда так же, как и сотни иных, уже забытых богов, — в военных повозках. Глубокая благодатная долина лежала на перекрестье торговых путей. За три тысячи лет она, как женщина, покорялась шести империям: персидской, македонской, арабской, монгольской, тюркской и советской, которая теперь отправляла отсюда легионы своих трудящихся за Гиндукуш — искать воды Ганга. Атаргатис пережила их все, стоя в темноте и улыбаясь в пустоту запечатанного святилища, где даже кости посвященных ей рыб давно обратились в прах.
Когда рабочие из экспедиции разобрали кладку, они увидели ее и пали ниц. Но не перед самой богиней, а перед грудой сокровищ, лежавших в пыли высохшего водоема. Тирские статеры и коринфские драхмы, хорезмские динары и византийские силиквы усеивали мозаичное дно, пересыпанные жемчугом, самоцветными кольцами, зернами нефрита, необработанными изумрудами. Странные китайские и индийские монеты соседствовали тут со скифскими подвесками из чистого золота и римскими геммами, вырезанными из розовых раковин Средиземноморья. Люди разных сословий веками приносили их сюда, чтобы бросить в пруд. И, конечно же, больше всего было достояния бедняков — зеленой меди, уже давно спаянной в безобразные комки, поглотившие лики царей и сатрапов. Ценность клада для науки была столь же велика, сколь и опасна. Пожилой профессор, увидев все это, слег в черной меланхолии, ибо сразу понял, что ждет находку…
— Всё растащат, — зло сообщил мне его сын, когда мы вместе гуляли в школьном саду на большой перемене. — Понаедут начальники, секретари и председатели. Каждый возьмет себе, что захочет. Как им отказать?!
— Никак, — согласился я, сразу вспоминая своих родственников. — Послушай, пока всё не разворовали, давай отправимся туда на выходные? Я на два дня попрошу у бабушки машину и кого-нибудь из взрослых. А, Дим?
Он посмотрел на меня мрачно и недоверчиво. Мы не были особенно близки: Дима учился с нами всего год, переехав из-под Москвы. В отличие от большинства одноклассников, его не ждали после уроков терпеливые шоферы в лаковых «Волгах», а всю обстановку родительской квартиры, предоставленной музейным главком, составляли книги. Он колебался, в нем боролись гордость и желание повидаться с отцом, которого он не видел с начала сезона. Наконец он нашел ненадежный компромисс, усмехнувшись:
— Там ведь в палатке придется спать, Омаров. И есть с рабочими.
— По-твоему, я в походы не ходил, что ли? — вяло возмутился я, отводя глаза.
Мы отправились в путь утром. Стояла поздняя весна, мы оделись легко, но Дима зачем-то еще повязал поверх рубашки пионерский галстук. Это было трогательно и немного смешно, ведь уже в ноябре нам предстояло сменить эти детские ridicules de rouge[1] на строгие комсомольские значки. Я удивленно посмотрел на него, однако промолчал. В Диме всегда было нечто такое, что взывало к товарищеской деликатности. Не зная, куда себя деть, я повозился на сиденье и сказал нарочито безразлично:
— Между прочим, нам палатку дали с собой. Шведскую… Гляди, вон ее в багажник грузят.
Но Дима даже не обернулся.
Раскопки и лагерь показались уже затемно. Никаких рабочих я не увидел. Вместо них всюду бродили осанистые мужчины в дорогих летних костюмах, с шакальим прищуром во взглядах. Дима прикусил губу и хотел было искать отца, но мы сразу же столкнулись с моей кузиной. Я отчего-то заранее знал, что увижу ее здесь, среди прочих высокорожденных мародеров. С ней была обычная свита: угрюмый диссидент, пророк гибели нашей империи; полковник-генштабист, в прошлом году устроивший для меня танковые стрельбы; пара неразлучных вожаков ВЛКСМ и еще какие-то бесцветные поклонники из Внешторга и Минкульта. Кузина смеялась, запрокидывая голову в тропическом шлеме. Вечерний ветер в конце концов сорвал с него шелковую ленту, и этот трофей Зефира сейчас же бросились ловить несколько мужчин, мешая друг другу.