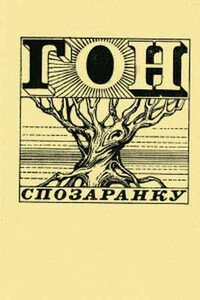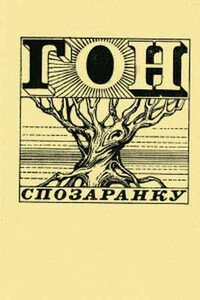Ты спускаешься по трапу самолета, вся в белом, в твоих ушах раскачиваются серьги, похожие на миниатюрные крюки для подвешивания туш, взопревшие ноги с трудом ступают в тяжелых нелепых туфлях с квадратными носами, пряжками и наборным каблуком — в туфлях, которые стоили семьдесят или даже сто долларов, разве упомнишь, а тут еще эта слепящая яркость вокруг. Солнечный свет. Утро. А, черт, где же темные очки? Ты ненавидишь утро, в тебе подымается гнев, вскипая, точно прокисший суп, но ты улыбаешься утру, потому что к тебе идут, выкрикивая магическое слово — твое имя.
Западное побережье приветствует тебя.
— Мадлен, ненаглядная! Как ты хороша! Боже, как она хороша! — кричит какой-то мужчина.
Несколько репортеров щелкают аппаратами. Нет, это не короли фоторепортажа, те возле знаменитых убийц и звезд более крупной величины. Стоя одна под этим солнцем, ты невольно поворачиваешься к вспышкам камер и улыбаешься. Ты улыбаешься, несмотря на омерзительный вкус во рту. Как ты ненавидишь солнечный свет! Как ненавидишь утро! Как ненавидишь мужчину, который тебя обнимает, хлопочет вокруг тебя, — проходимец, ты видишь его насквозь! — и все-таки ты идешь с ним к зданию аэровокзала в этих своих тяжеленных модных туфлях, в белой юбке на восемь или, может быть, десять дюймов выше колен, идешь, подставив невыносимо яркому свету злую улыбку, а твой агент орет тебе чуть не в самое ухо, что тебе предстоит сегодня делать и с кем встретиться.
Ты, женщина, которой уже стукнуло сорок. Ты, неправдоподобное существо в белом, с вызывающей фигурой, с белыми, как кость, крашеными волосами, без единой морщины, без тени мысли на лице, с этой пустой, злой улыбкой, которой ты пытаешься подавить тошноту. Вы слишком много пили вчера вечером. Слишком громко шумели. Твой агент дышит тебе прямо в лицо — бр-р, до чего ты ненавидишь мужчин!
— А где же мой багаж? — вдруг говоришь ты, чтобы отделаться от него.
Какие все нерасторопные, еле движутся. Земля еле движется.
— Багаж! Багаж!
Некто мальчишеского вида — приятель твоего агента — хлопает в ладоши, куда-то бежит, суетится. Сейчас твой багаж доставят, не беспокойся. Твой багаж, дорогие белые чемоданы, кое-где поцарапанные. Их швыряют и волокут, точно вещи, не имеющие цены. Да они и в самом деле не имеют цены.
Что ты делаешь здесь, в Калифорнии?..
Ты садишься в такси. Твой агент кладет руку возле твоего атласного колена — наплевать, его прикосновение ничего не значит, ты откидываешься на спинку сиденья и глядишь в окно, стараясь не замечать его руки. До чего ты презираешь мужчин. Ты сама об этом сказала, и, к счастью, тебя тогда не услышал никто посторонний.
— Несравненная моя, ненаглядная, как ты хороша! Зачем ты напугала меня по телефону? Что ты там говорила — упадок сил, ты не выдержишь? Это ты-то, женщина, которая за всю свою жизнь ни разу не болела! — И он сжимает твою руку.
Твоя рука — это изящные стальные косточки, удивительно крепкие, и нежная, белая, благоухающая плоть, такая женственная, прелестная.
Мадлен Ранделл.
— Ну как тебе сценарий? Как роль?
Сценарий. Пятна на синей обложке. Страницы, которые ты листала в самолете, заставляя себя читать, заставляя себя учить роль… Ты ненавидишь ксерокопии.
Ты пожимаешь плечами.
— Но ведь эта женщина-врач — ты! Ты в новом воплощении! Это твоя роль. Она написана как будто для тебя.
Тебя вводят в холл мотеля. Запах хлорки и клопиной жидкости. Пушистые белые ковры на полу. Ты рассеянно киваешь кому-то, подошедшему к тебе с улыбкой: «Скажите, вы Мадлен Ранделл?» Ты стоишь у стеклянной стены на фоне пальм или чего-то там еще, выставив на всеобщее обозрение свой огромный, вызывающий, неправдоподобный бюст, свои безупречные ноги, ноги сорокалетней женщины, с атласной кожей, точеными лодыжками, в тяжелых модных туфлях, за которые ты заплатила двести долларов или больше, теперь и не вспомнить. Везут твой багаж. Чемоданы набиты платьями, и каждое стоит двести, или триста, или четыреста долларов, во всяком случае, за столько ты их покупала — сейчас они скомканы, смяты, погребены под грудами туфель и прочего барахла. Когда ты через несколько минут откроешь самый маленький чемодан, у тебя вырвется крик ярости: из флакона с полосканием для рта вытекла зеленовато-голубая жидкость!
— К чертовой матери! Все к чертовой матери! Я больше не могу, не могу, не могу!
Ты мечешься по комнате, громыхая туфлями. В зеркале отражаются твои белокурые волосы и злое лицо — лицо звезды средней величины. Ты так красива, у тебя столько денег, тебе все завидуют, а жидкость все-таки пролилась, и ты кричишь своему агенту и его мальчишеского вида приятелю, чтобы они не смели говорить тебе ни слова, чтобы они убирались и оставили тебя в покое, ты сейчас будешь звонить, ты сейчас возвращаешься в Нью-Йорк…
— Мэдди, ради бога! Мэдди, умоляю!
— Но моя дочь…
— Мэдди, ты убьешь всех! У меня дрожат руки, смотри!
Джерри показывает тебе свои дрожащие руки, и ты внимательно смотришь на них, желая удостовериться в истинности его горя. Да, он весь дрожит. У него неважно со здоровьем, он сейчас не тот, что был лет десять назад.
— С одной из моих дочерей случилось несчастье, — тупо говоришь ты.