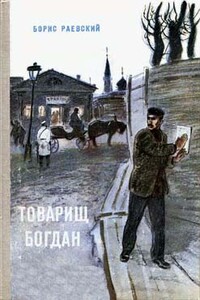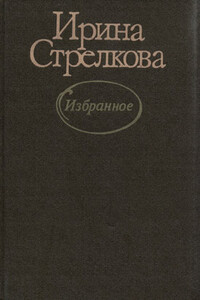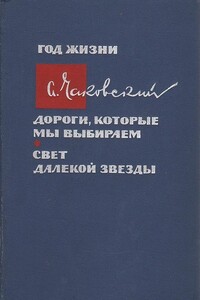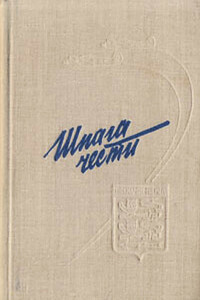По Садовой улице, громко стуча опорками по обледенелому тротуару, торопливо шел невысокий парнишка.
На нем был армяк из шершавого домотканого сукна, слишком широкий и длинный, — видно, с чужого плеча, — в поясе перехваченный веревкой. Правую руку он засунул глубоко в карман, левой — придерживал на голове плоский деревянный лоток. На эту руку страшно было смотреть, — она закоченела, стала красно-сизой, пальцы не гнулись.
Утро только начиналось. Питерские улицы еще окутывал полумрак. Ночью ударил сильный мороз. Возле Гостиного двора прямо на мостовой горел костер. Звонко потрескивали поленья, на них пузырилась, накипала смола, струи искр взлетали к галерее, тянущейся по второму этажу. Около костра грелись дворники в белых фартуках, надетых поверх огромных тулупов, городовой в черной шинели. Два бородатых извозчика, притопывая на снегу, гулко хлопали рукавицами.
Ваня свернул в переулок. Вынул из кармана правую руку, на ходу перехватил ею лоток на голове, а левую, замерзшую, сунул в карман. Чтобы согреться, пошел еще быстрей, почти побежал.
В лотке лежали три головы сахара, несколько пачек чая, свечей, шесть кусков мыла, кульки с черносливом, колбасные круги…
«Заиметь бы рукавицы», — подумал Ваня, поднявшись по узкой, крутой «черной» лестнице на четвертый этаж и дуя на замерзшую руку, перед тем как позвонить в дверь.
Рукавицы он недавно потерял. А купец нарочно на новые не дает.
«Походи, — говорит, — померзни, отучишься хлебало разевать..»
Дверь открыла кухарка.
— Из лавки, — сказал Ваня, передавая ей сушеные фрукты и колбасу.
Спустился на улицу и заспешил к следующему постоянному покупателю.
Долго бегал «мальчик из лавки» по «черным» лестницам, звонил, оставлял кульки, пакеты и торопливо шел дальше.
Тяжелый деревянный лоток сильно давил на голову. Ваня передвигал его и так, и этак, но все равно темя и затылок тупо ныли. Казалось, голова сверху воспалена и опухла. А главное, стоило поносить лоток хоть полчаса — в глазах все мутнело, мельтешили серо-оранжевые полосы, веки набухали.
В первые месяцы работы у купца мальчик, неся лоток, мотал головой, щурился, надеясь, что полосы исчезнут, но потом привык, смирился.
Нынче глаза у Вани совсем разболелись: все время маячила сетка. Посмотришь на лихача — видишь решетку, густую серо-черную решетку, и лишь за нею — лошадь и сани. Будто лошадь упрятали в тюрьму. На небо глянешь — облака и то плывут за решеткой.
Вскоре лоток опустел. В Апраксин двор мальчик возвращался неторопливо. Хоть и сильный мороз на улице, зато нет рядом ни приказчика, ни купца. Никто не обругает, не ударит, не дернет за вихры. Идти с пустым лотком легко и привольно.
…В лавке, кроме приказчика, никого еще не было. Стоял полумрак, только потрескивала свеча на прилавке, и от дрожащего язычка пламени по стенам метались причудливые тени, то смешные, то страшные.
— Отдерни-ка эту чертову занавесочку, — хмуро приказал Ване приказчик, мотнув головой в сторону окна.
Паренек, выскочив на улицу, с грохотом поднял тяжелую, «гармошкой», железную штору, закрывающую окна лавки.
Купец больше всего на свете боялся воров и был очень доволен, что его бакалейная лавка, словно ювелирный магазин, задергивается железной шторой. Каждый вечер заставлял он опускать ее и сам проверял, хорошо ли защелкнут замок.
Через полчаса пришел сам купец: плотный, жилистый, с маленьким острым носиком, косматыми бровями, которые все время двигались, как два крохотных живых зверька. На правом глазу у него то и дело дергалось веко: казалось, купец подмигивает кому-то.
— Воруешь, щенок? — вместо приветствия сказал он Ване.
Каждый день, вот уже четыре года, слышал мальчик этот вопрос.
— У меня воровать не моги! Руки повыдергаю! — грозился низенький, бородатый купец, и правый глаз его свирепо подергивался.
Голодному мальчишке нестерпимо хотелось взять с прилавка вкусные обрезки колбасы или румяный бублик. В лавке стоял такой аппетитный дух — мальчика даже поташнивало.
Но Ваня ничего не брал. Ничего. Накрепко запомнил жестокую «выволочку», полученную еще в самом начале службы.
Через неделю после того, как мать привела его в лавку, Ваня не выдержал: украдкой взял в кладовой из раскрытого мешка сухарь и захрустел им. Неожиданная оплеуха сбила его с ног. Перед Ваней стоял сам купец в черной рубахе и, как всегда, в валенках-чесанках с калошами, которые он носил и зимой и летом. Как он открыл две двери и спустился в кладовую, Ваня не расслышал.
— Воровать, щенок?! — закричал купец и снова ударил Ваню. — А уговор? Так исполосую, — забудешь, на чем сидят…
Мальчик поднялся, размазывая рукавом кровь по лицу.
— Вы ж подрядили меня «на всем готовом», — всхлипнул он, — а сами не кормите…
— Не ндравится? Хоть сей секунд получи расчет! — взвизгнул купец. — А воровать не моги! Не моги! Не моги! — кричал он, тыча волосатым кулаком Ване в лицо. — И рукавом по харе не вози: рубаху кровью обсопливишь, как опосля к покупателям выйдешь?
С тех пор мальчик ходил голодным, но ничего не брал в лавке.
…Ваня еще не успел отогреться, как приказчик распорядился:
— Притащи-ка из кладовки селедок!