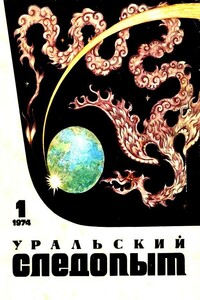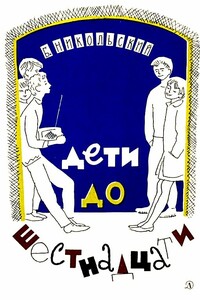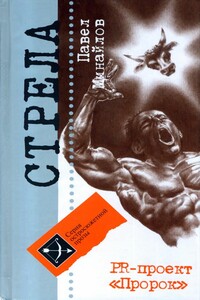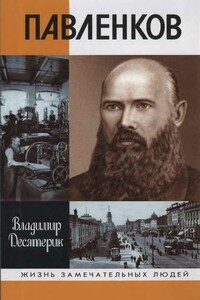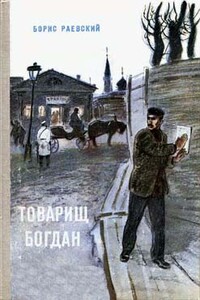глубоком, как ущелье, дворе мрачного старого дома, каких, к сожалению, еще много в Ленинграде, гоняли мяч мальчишки.
Мяч был старенький и напоминал не шар, а скорее яйцо. А уж камера!.. Латаная-перелатаная.
Всего несколько лет назад кончилась война, и камер было не достать. И эту вот с великими муками выменяли у паренька из соседнего дома. Дали за рваную камеру трофейный тесак, железный немецкий крест (это орден такой) и в придачу еще солдатский пояс, с «Гот мит унс!» [1] на металлической пряжке.
Мальчишки носились с подтеками пота и грязи на лицах, ошалевшие от усталости и азарта.
Только один из них не гонялся сломя голову по всему двору. Не по летам грузный и длинный — не зря его прозвали Витька-Башня, — он топтался неподалеку от ворот противника.
Он выжидал. Выжидал терпеливо, упрямо, исподлобья внимательно следя за игрой.
Вот мяч вдруг перелетел все поле и, подпрыгивая, покатился мимо Витьки-Башни. Вялость мигом слетела с него. Рванулся, настиг мяч и с трех метров кинжальным ударом воткнул его в ворота.
— Неправильно! — яростно заорал низенький тщедушный мальчонка. Голос у него был визгливо-пронзительный. — Офсайт! Не считается!
— Чего-чего?! — Витька-Башня, как танк, тяжко и грозно надвинулся на него. — Гол!
— Неправильно! — не сдавался щупленький. Его звали Юлька-Заморыш. Иногда звали Юла. — Ты же из офсайта!..
— Умолкни, сопля! — Витька двумя пальцами, как клещами, ухватил Юлу за нос. Крепко сжал и потянул к себе. Потом откинул ему голову назад. И опять притянул к себе. И еще… И еще…
… Юла махал руками, дергался, извивался всем телом, но все напрасно. Короткорукий, дотянуться до высоченного Витьки он не мог. Щеки У Юльки побелели, а нос налился густой краснотой.
Ребята вокруг хмуро молчали.
— Сколько раз надо повторять?! — меж тем приговаривал Башня. — Граждане! Не появляйтесь внезапно перед быстро идущим транспортом. Помните, граждане: мгновенно остановить транспорт невозможно…
Это была излюбленная Витькина манера. Он говорил что-то нелепое, не имеющее отношения к делу. Но почему-то получалось иногда смешно.
На этот раз никто не смеялся. Мальчишки по-прежнему угрюмо молчали.
— Брось ты! — наконец не выдержал Венька. — Чего пристал?
— Как не стыдно! Обижать слабых! Это подло! Подло! — вдруг раздался тонкий девчоночий голос.
Ребята обернулись. И Витька тоже.
Ну, конечно. Это Женя из тридцать третьей. Вечно она в мальчишечьи дела суется.
— Это подло! И трусливо! — гневно кричала Женя, наступая на Башню. — Брось сейчас же!
Витька поглядел на нее лениво-небрежно.
— И впрямь бросить, что ль? — вслух подумал он.
И сильно пихнул Юлу. Тот упал.
А Витька неторопливо зашагал со двора.
Грязный, взлохмаченный поднялся Юла с земли. Венька подошел к нему, стал отряхивать пыль с его куртки и штанов.
— Да ладно, — хмуро буркнул Юла.
Он потрогал сильно распухший нос.
— Очень больно, Юлий? — спросила девочка.
— Нет. Даже приятно, — попытался сострить Юла. Но шутки не получилось, и он, прикрыв рукой нос, сердито сказал Жене: — Шла бы ты…
— Ну и пойду!
Она тряхнула косами и ушла, ни разу не обернувшись.
Все во дворе знали историю ее отца. О нем был на целую страницу очерк в газете. И фотография. На разных фронтах он сбил девятнадцать вражеских самолетов, а сам не получил ни царапины. Но в последний день войны, уже даже не в войну, было уже объявлено о победе, какой-то недобитый фриц, прятавшийся в подвале, застрелил его.
Теперь Женя жила с матерью и бабушкой, у которой что-то сместилось, сдвинулось в голове, когда узнала она о такой нелепой и потому особенно обидной гибели сына. Старуха так вроде бы была ничего… Но, увидев афишу о балете или услышав балетную музыку, она тотчас начинала всхлипывать. Ее сын очень любил балет.
Женя ушла, а мальчишки обступили Юлу. Венька отвернул кран прачечной, смочил свой платок и подал Юле.
— На, приложи… А этому гаду Башне давно пора бы всыпать.
Ребята молчали.
— Всыплешь ему, как же! — вздохнул кто-то. — Он же любого из нас- одной левой…
На дворе быстро темнело. Лампочки еще не зажглись, и весь двор теперь напоминал какую-то таинственную пещеру с темными закоулками, провалами, тупиками и гротами.
Постепенно мальчишки разбрелись по квартирам.
Юла и Венька еще долго сидели на бревнах, привалившись спинами к дощатой стенке сарая. За день стена нагрелась на солнце и до сих пор хранила приятное тепло.
Юла и Венька были похожи, друг на друга. Оба низенькие, щупленькие! Доходяги — называют таких. У обоих ноги — как тросточки. А лопатки торчат такие острые, прямо уколоться можно, если с разбегу наскочишь на них.
Только у Юлы лицо широкое, а у Веньки — маленькое, узкое и глаза тоже маленькие и прячутся под очками глубоко глубоко. А может, у Веньки лицо казалось таким узким, потому что, уши у него какие-то плоские, плотно прижатые, словно приплюснутые к голове.
Юла не спешил домой. Мать… Увидит такой нос, опять крику не оберешься. А Венька не уходил принципиально. Не покидать же друга!
— Эх, быть бы мне Али-Махмуд-Ханом! — сказал Юла.
Венька понятливо хмыкнул.
Недавно на ленинградских улицах запестрели огромные яркие афиши. Цирк. Знаменитый, турецкий силач! Али-Махмуд-Хан. И был нарисован могучий дядька в черном борцовском трико. Мускулы у него — как булыжники. Он держал шест, и на каждом конце шеста висела целая гроздь людей. Наверно, человек восемь, не меньше.