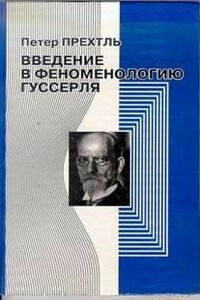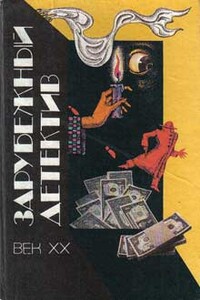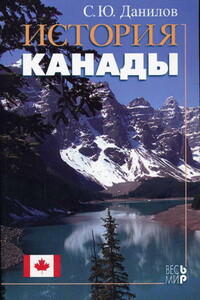Никто не станет спорить с тем, как важно знать, не вводит ли нас в заблуждение мораль. Не состоит ли трезвость — открытость духа истине — в умении предвидеть постоянную угрозу войны? Война приостанавливает действие морали; она лишает вечные институты и обязательства их вечного характера и вслед за этим отменяет — пусть только на время — безусловные императивы. Война заранее отбрасывает свою тень на человеческие поступки. Она не просто является одним из самых жестоких испытаний для морали. Она делает ее смехотворной. Искусство предвидения войны и умение ее выигрывать всеми доступными средствами (политика) становятся упражнением для разума. Политика противостоит морали так же, как философия — наивности.
Нет нужды с помощью туманных фрагментов Гераклита доказывать, что бытие предстает перед философским мышлением как война, что война воздействует на бытие не только наиболее очевидным образом, но как сама очевидность (patence) — или истина — реального. В условиях войны реальность отбрасывает слова и образы, которые ее скрывают, чтобы предстать во всей своей обнаженности и жестокости. Война, эта жестокая реальность (звучит совсем как плеоназм!), этот жестокий урок, преподанный вещами, осуществляется как чистый опыт чистого бытия, он как вспышка молнии, сжигающая все покровы иллюзии, как онтологическое событие, вырисовывающееся в этой разреженной мгле, как движение существ, до тех пор скрепленных своей идентичностью, как приведение в действие абсолютов: все это повинуется объективному закону, которого нельзя избежать. Испытание силы есть испытание реальности. Однако насилие состоит не столько в том, чтобы ранить и уничтожать, сколько в разъединении связанных друг с другом людей, которых принуждают играть чуждые им роли, отказываться от обязательств и даже от собственной субстанции, совершать акты, которые разрушали бы самую возможность что-либо делать. Современная война, как любая война, ведется с помощью оружия, которое оборачивается против тех, кто держит его в руках. Воина создает такой порядок, который полностью поглощает человеческую личность. Отныне ничто не может быть вовне. Война не допускает никакой экстериорности, не дает возможности иному существовать как иному; она же разрушает идентичность Тождественного.
Лик бытия, проступающий в войне, может быть определен с помощью понятия «тотальность», господствующего в западной философии. Индивиды в условиях войны сводятся к простым носителям сил, управляющих ими без их ведома. Свой смысл индивиды черпают в этой тотальности, вне которой они непостижимы. Единичность каждого ныне присутствующего постоянно приносится в жертву будущему, призванному определить его объективный смысл. Поскольку в расчет берется только итоговый смысл, то лишь последний акт способен изменить существа в их бытии. Они — то, чем явятся в эпопее, обретя пластические образы.
Моральное сознание в состоянии вынести насмешливый взгляд политика, только если вера в мир преобладает над очевидностью войны. Такая вера не достигается простой игрой противоположений. Мир в империях, рожденных в войнах, поддерживается войной. Он не возвращает отчужденным существам утраченную ими идентичность. Необходимо изначальное и подлинное отношение к бытию.
В исторической перспективе мораль сможет противопоставить себя политике и возвыситься над соображениями благоразумия и канонами красоты, чтобы стать безусловной и универсальной, когда эсхатология мессианского мира одержит верх над онтологией войны. Философы с недоверием относятся к такому утверждению. Они, разумеется, используют его в своих выступлениях за мир, однако, выводят конечные основания мира из разума, который не оставался безучастным к войнам — прошлым и современным; они обосновывают мораль с помощью политики. Но как произвольное и субъективное обожествление будущего, как зависящее от веры откровение неочевидного, эсхатология для них естественным образом вытекает из Мнения.
Во всяком случае такой исключительный феномен, как профетическая эсхатология, не может отстоять своего права на собственное место в мышлении, наподобие философской очевидности. Конечно, в религиях и даже в теологиях эсхатология, это чудесное пророчество, кажется «дополняющей» философские очевидности; её верования-догадки претендуют на большую достоверность, нежели очевидности, словно эсхатология добавляет последним ясности относительно будущего, обнаруживая конечную цель бытия. Однако эсхатология, будучи сведена к очевидностям, должна была бы принять вытекающую из войны онтологию тотальности. Но ее подлинное значение заключается совсем в другом. Она не привносит в тотальность телеологическую систему и ей не пристало говорить о направленности истории. Эсхатология устанавливает связь с бытием по ту сторону тотальности, или истории, а не по ту сторону прошлого или настоящего. Речь идет не об отношении к окружающей тотальность пустоте, где можно мыслить, что угодно, тем самым осуществляя право на свободное проявление субъективности. Эсхатология это отношение к избыточности, всегда внешней по отношению к тотальности, как если бы объективная тотальность не была полной мерой бытия, как если бы иное понятие понятие бесконечности — должно было выражать эту трансценденцию, внешнюю по отношению к тотальности и не охватываемую ею, но столь же изначальную, как и она сама.