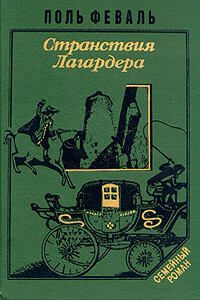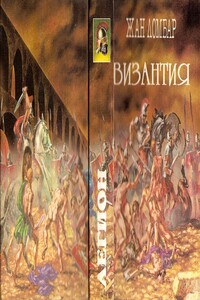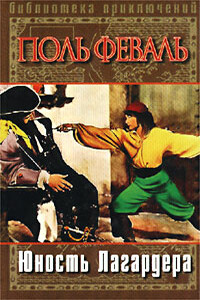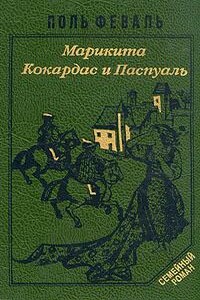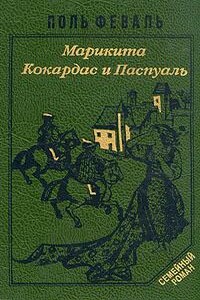Ночные казни, происходившие за стенами Бастилии, вовсе не были тайными. Самое большее, что можно сказать, – это то, что на них не допускалась публика. За исключением нескольких несчастных, чьи имена ведомы истории, сложивших голову без суда по секретному приказу короля, все остальные преступники ложились на плаху по приговору суда и с соблюдением всех необходимых формальностей. Внутренний двор Бастилии был таким же признанным и законным местом казни, как Гревская площадь. Однако привилегией рубить головы в крепости обладал только «Месье де Пари»[1].
Эта тюрьма стала объектом ненависти – ненависти вполне оправданной; но парижская чернь ставила в вину Бастилии прежде всего то, что стены ее мешали вдоволь полюбоваться зрелищем насильственной смерти. Лишь нынешние смертники, прошедшие через заставу Рокет, могли бы сказать нам, излечился ли народ Парижа от варварского пристрастия к виду страданий и крови. Сегодня вечером Бастилии предстояло укрыть от людских глаз агонию убийцы герцога Неверского[2], осужденного Огненной палатой[3] Шатле. Но не все было потеряно: публичное покаяние у могилы жертвы и отсеченная рука тоже кое-чего стоили – и, по крайней мере, это можно было увидеть.
Похоронный перезвон Сен-Шапель привел в необыкновенное волнение все простонародные кварталы города. В отличие от нашей эпохи, в те времена новости передавались из уст в уста, – но именно поэтому все устремлялись к месту событий, дабы судить о них по собственному разумению. В одно мгновение толпа запрудила все подступы к Шатле и ко дворцу. Когда зловещий кортеж, выйдя из ворот Коссон, двинулся по улице Сен-Дени, по обеим сторонам ее уже расположилось не меньше десяти тысяч зевак. Никто из них не знал шевалье Анри де Лагардера. Обычно среди любого сборища находятся люди, могущие назвать по имени осужденного, – сегодня же все пребывали в полном неведении. Однако в подобных случаях неведение нисколько не мешает толкам, – напротив, оно порождает множество самых разнообразных предположений. Вместо одного неизвестного имени возникает сотня имен. Всего за несколько минут на Лагардера взвалили самые известные политические, равно как и прочие, преступления последних лет, и толпа с жаром обвиняла во всех грехах этого красавца, который шел со связанными руками в окружении четырех гвардейцев с обнаженными шпагами. Рядом с ним выступал исповедник-доминиканец с бледным лицом и пылающим взором: он указывал на небо медным крестом, размахивая им наподобие меча. Открывали и замыкали шествие конные лучники. В толпе слышалось:
– Он к нам прямо из Испании[4] заявился. Альберони ему посулил тысячу двойных пистолей, чтобы мутил воду во Франции.
– Вот оно как! То-то он с монаха глаз не сводит. Небось много чего надо отмаливать!
– Посмотрите, мадам Дюдуи, какой прекрасный парик получился бы из этих чудесных белокурых волос!
В другом месте судачили:
– Он у герцогини Мэнской[5] был в секретарях. Ему поручили похитить маленького короля в ту ночь, когда монсеньор регент[6] устраивал бал в Пале-Рояле.
– А на что им маленький король?
– Чтобы увезти в Бретань. А его королевское высочество они хотели засадить в Бастилию. А Нант – объявить столицей…
Чуть дальше:
– Он затаился во Дворе Фонтанов и поджидал господина Лоу[7], чтобы ударить его кинжалом, улучив удобный момент…
– Какое гнусное злодеяние! Весь Париж был бы разорен дотла…
Когда кортеж достиг угла улицы Феронри, раздался целый хор визгливых женских голосов. Улица дю Шантр была в двух шагах, и здесь собрались мамаша Балао, тетка Дюран, мамаша Гишар, равно как и прочие хорошо знакомые нам кумушки. Они сразу признали таинственного мэтра Луи, у которого находились в услужении госпожа Франсуаза и маленький Жан-Мари Берришон.
– Гляньте-ка! – вскричала мамаша Балао. – Разве я не говорила, что добром это не кончится?
– Сразу надо было на него донести, – промолвила, поджав губы, мамаша Гишар. – Слыханное ли дело: скрываться от соседей?
– А рожа какая наглая, господи прости! – вторила тетка Дюран.
Другие же вспоминали уродца горбуна и красивую девушку, которая пела, сидя у окна. И добрые женщины убежденно восклицали, провожая взглядом зловещую процессию:
– Да уж, про этого не скажешь, что зазря попался!
Зрители не рисковали забегать далеко вперед, поскольку не знали, куда именно направляется кортеж. Лучники и гвардейцы хранили на сей счет многозначительное молчание. Во все времена этим славным служителям закона доставляло несказанное наслаждение мучить толпу, изнывающую в неведении. Пока не миновали рыночную площадь, опытные люди утверждали, что осужденного поведут к бойне Невинных младенцев, где был установлен позорный столб. Однако рыночная площадь вскоре осталась позади.
Кортеж, проследовав по улице Сен-Дени, свернул на маленькую улочку Сен-Маглуар. Передние зрители увидели тогда два факела, зажженные у ворот кладбища; это обстоятельство вызвало множество новых догадок и предположений. Но даже знатоки умолкли, когда случилось неожиданное происшествие, известное нашему читателю: регент приказал доставить осужденного в парадную залу Неверского дворца.