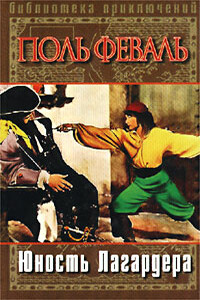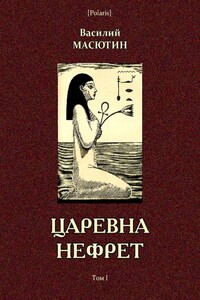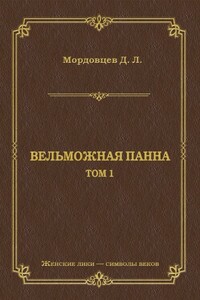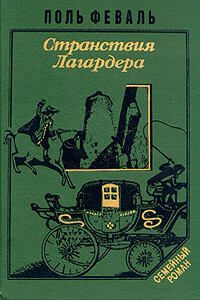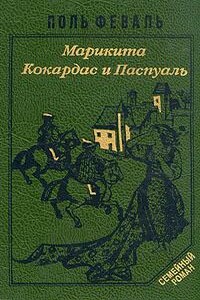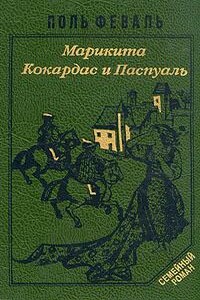Догорал один из последних дней Страстной недели 1682 года. С гвасталльских церквей поснимали колокола и отправили их в Рим к папе для благословения. Дети изумленно смотрели на городские колокольни: неужто их звонкоголосые обитатели, отлитые из меди и одетые в серебро, улетели, словно ласточки да голуби? А взрослые — и богачи, и бедняки — грустно качали головами и толковали меж собой:
— Ох, не пришлось бы им, когда вернутся, как раз звонить по государю нашему герцогу! Совсем он, говорят, плох…
Всякий, кому в тот вечер случалось пройти по площади Санта-Кроче, творил крестное знамение, разглядывая дворец, где угасал их добрый старый герцог. Последние лучи весеннего заката окрасили в розовый цвет белый мрамор фасада, но огней во дворце еще не зажигали.
— Только что, — говорили иные горожане, — из Франции прибыл молодой человек — не придворный ли врач? В Версале немало докторов печется о долгоденствии короля Людовика XIV, не спасут ли они и нашего доброго государя?
— Да нет, — возражали другие, — это приехал сын проклятого де Пейроля — одна рожа со старым разбойником! Черти б их обоих разорвали!
А кумушки судачили так:
— Крысы, говорят, бегут с корабля, которому судьба затонуть, а стервятники — те, известно, наоборот: со всех сторон норовят слететься на падаль, едва зверь подохнет. Не иначе Пейроль, старый коршун, почуял мертвечину, вот и кликнул птенца, чтоб поделиться добычей. Дурной это знак — видно, смерть бродит неподалеку!
Так оно и было. Отец и сын встретились после двенадцатилетней разлуки и беседовали с глазу на глаз в нарядно убранных покоях на третьем этаже герцогского дворца. Несмотря на жару, наступившую прежде времени, окна и двери были затворены, а занавеси опущены. С каждой минутой сгущались сумерки, погружая во тьму ложе с балдахином, инкрустированные перламутром шкафы черного дерева, три резных дубовых кресла и большой деревянный сундук. В темноте уже едва можно было различить флорентийские доспехи XV века и чудный столик слоновой кости; на черном мраморном полу тускло поблескивала золотая мозаика — геральдические лилии.
Сын, Антуан де Пейроль, был тощ и долговяз, с желтоватой кожей, блеклыми волосами, бегающим взглядом, грубой и тяжелой нижней челюстью. Длинная, до пят, шпага должна была свидетельствовать о его дворянском происхождении, однако все остальное — камзол, туфли, брошенная на столик шляпа — говорило об обратном: благородные люди таких не носят…
Отец в который раз смерил сына взглядом и недовольно подумал про себя: «От него несёт судейским! Ни дать ни взять — нотариус… Да нет, хуже того — судебный пристав!»
Сезар де Пейроль, интендант[1] и доверенное лицо герцога Гвасталльского, был так разочарован видом своего единственного отпрыска, что за полчаса не сказал ему и двух десятков слов. Но кого он ожидал увидеть? Белокурого херувимчика? Щеголя из тех, по ком сходят с ума молоденькие дурочки? Кто знает…
Расположившись в бронзовом курульном кресле[2], на каких в Риме в дни торжества восседали отцы отечества, старик наблюдал, как его сын, сущий скелет в отрепьях, ходит взад-вперед по темной комнате.
Как это часто бывает, — вечная история с сучком и бревном в глазу! — Сезар полагал, что сам он куда как хорош собой, и не замечал, что сын удивительно похож на него. Горожане были проницательнее. Если не смотреть на разницу в возрасте и одежде — старик носил серое атласное платье и лакированные кожаные башмаки, — Антуан был вылитый отец, каким тот приехал в Гвасталлу двадцать лет назад. Антуану еще не исполнилось и семнадцати, но он, несмотря на худобу, отличался ловкостью и изрядной силой. Отец же его подбирался к шестидесяти годам. Однако выглядел много старше, и те, кто не любил его, а таковые имелись в избытке, за глаза говорили: «От старика веет могилой!»
Сезар де Пейроль в своей жизни не ведал меры, когда дело касалось неиссякающих благ Италии: вина и красоток. И он вволю насладился ими! Не развязывая кошелька, он мог пить лучшие вина из погребов герцога Гвасталльского, а положение доверенного лица при государе давало ему полную власть над женской добродетелью: интендант взимал поцелуями недоимки с налогов и пошлин…
После апоплексического удара, однако, он вынужден был подчиниться строгим предписаниям лекарей. Он сумел обуздать страсти и отвратился и от Бахуса, и от Венеры. Но за все приходится платить. Было уже поздно — за первым ударом последовал и второй.
Старик опять выкарабкался, но очень сдал. Тут-то он вспомнил, что оставил в Париже сына, и послал за ним.
— Вот из-за чего я велел вам без промедления прибыть из коллежа ко мне. Теперь вы приехали. Я доволен, — бесстрастным голосом проговорил Сезар.
При этих словах Антуан вздрогнул, перестал ходить взад-вперед по комнате и обернулся к отцу.
— Вы что-то сказали? — спросил он.
— Нет-нет, — отвечал больной, — я говорил сам с собою, вы не могли понять моих слов. Возьмите табурет, сын мой, и садитесь поближе. Времени у меня в обрез. От любого усилия со мной может приключиться третий удар, и, как мне сказали, едва ли он меня пощадит. Поэтому я буду говорить прямо и кратко. Наружностью, Антуан, вам не взять. Вы не красавец, отнюдь не красавец. Но вы получили от меня — именно от меня, ибо мать ваша была изрядная ветреница, — дар лучший, нежели вянущая со временем красота. Вы умны. Посему у меня есть основания полагать, что вы, не разделяя губительных предрассудков нашего сословия, и в грош не ставите то, что глупцы напыщенно именуют долгом чести, и отдаете себе отчет в том, что дворянину без денег и без покровителей не до щепетильности.