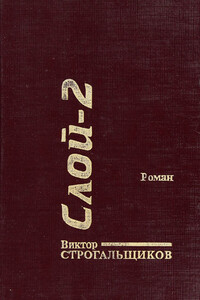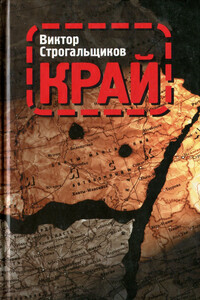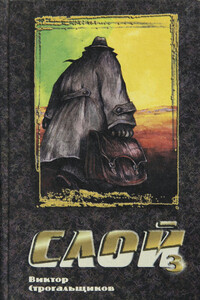«...Дискредитацию оппонента, то есть формирование в массовом сознании избирателей устойчивых отрицательных восприятий его личности и действий, можно разделить на два типа:
1. Доказательство несостоятельности оппонента как политика, его неспособности улучшить жизнь людей.
2. Компрометация, подрыв репутации оппонента в глазах избирателей. Это достигается обычно через предание гласности неблаговидных эпизодов его жизни и карьеры...».
Со школьных лет Лузгин терпеть не мог учебники, ещё больше возненавидел их в университете, где «изучал» журналистику – нечто, на его взгляд, высосанное из пальца старыми усидчивыми тетками: все эти жанры, композиции и прочие мудреные слова, кормившие оравы доцентов с кандидатами и портившие жизнь Лузгину на экзаменах и зачетах. Истины в «предмете»-журналистике не существовало; была совокупность якобы авторитетных мнений, кои следовало вызубрить и воспроизводить письменно и устно, что открывало дорогу к красному диплому. Жизнью здесь и не пахло; здесь пахло скукой и удачным распределением.
«...К источникам «компромата» на оппонента традиционно относятся люди, хорошо знавшие соперника в прошлом: одноклассники, сослуживцы, деловые партнеры. Следует учесть, что чем выше по социальной лестнице поднялся оппонент, тем охотнее люди из его прошлого будут делиться негативными сведениями о нем».
Лузгин хмыкнул и откинулся на спинку рабочего кресла. Спокойный цинизм того, что он читал, приводил его странным образом к веселому настроению. Была осень, сырой и темный вечер за окном, полтора часа до английского футбола по телевизору и месяц с небольшим до губернаторских выборов. Лузгин сидел за письменным столом в дальней комнате квартиры, гордо именуемой кабинетом, пил кофе, курил и читал брошюру под названием «Работа с оппонентом в избирательной кампании» группы московских авторов.
«...Непреложное правило: вашему кандидату ни в коем случае нельзя продвигать «компромат» на оппонента от своего имени: народ не любит пачкунов и кляузников. Весь компрометирующий материал должен быть пропущен через третьи, «независимые» источники. Важно при этом иметь в виду, что интерес вашего кандидата к обнародованию таких материалов должен быть тщательно скрыт».
Дверь кабинета пискнула тугой петлею, жена прошептала:
– Володя, там кто-то пришел.
По вечерам Лузгин прикручивал колокольчик квартирного звонка до тихого бряка, неслышного в кабинете.
– Что значит «кто-то»? – спросил он, не оборачиваясь.
– Не знаю, звонят, – ответила жена.
– Так поди и узнай, – с начальной ноткой раздражения сказал Лузгин.
– А ты дома? – спросила жена.
– Ну, Тамара!.. – Он начал было заводиться, но жена осторожно прикрыла дверь и прошлепала тапками по коридору.
В доме существовал некий порядок, табель о рангах звонящих и приходящих. Давно уже минули те молодые времена, когда каждый гость или звонок добавляли Лузгину жизни; теперь они от жизни отнимали, и лузгинская привычка прятаться, не подходить к дверям и телефону была уже известна многим, и образовался даже глупый беспардонный спорт – звонить до беспредела: мол, знаем, что ты дома, у нас нервы крепче. Особенно усердствовали ночные гости с выпивкой. Жена Тамара кричала через дверь, что мужа нет дома, он у мамы или в отъезде, но ей не верили и продолжали гулеванить. Однажды далеко за полночь не выдержали нервы у соседа, он вышел на площадку и дал кому-то в лоб, начались грохот и свалка. Лузгин выскочил в пижаме разнимать. Потом все вместе пили у соседа на кухне; жена Тамара демонстративно заперлась на щеколду, Лузгин под утро пинал дверь ногами и матерился шепотом...
Он глянул на часы: было начало одиннадцатого. Черт знает кого могло принести в это время.
Лузгин услышал щелканье замков, глухие мужские голоса в прихожей и голос жены без обычной для такой ситуации театральной истерики и понял, что пришли свои. Можно было сидеть и ждать здесь, в кабинете, подчеркнув тем самым несуразность ночного визита, но любопытство возобладало, и Лузгин, хлебнув кофе, встал и пошел в коридор.
У входной двери, снимая обувь, состязались в поклонах двое: старый друг и одноклассник Валерка Северцев и этих же лет мужик с неясно знакомым лицом.
– Здорово, – сказал Валерка. – Ты извини, что поздно и без звонка, но ты же, гад, все равно трубку не снимаешь.
– Привет, Володя, – сказал, разогнувшись, второй мужик, и Лузгин узнал его, но без имени и фамилии, только по облику; в памяти прорезалось что-то связанное с комсомолом, шустрым молодёжным бизнесом времен первых кооперативов, тихой обналички и двадцатипроцентных комиссионных, на чем «комсомольцы» и делали свой капитал. – Незваный гость хуже татарина?
– Лучше, – сказал Лузгин. – Только не татарина, а чеченца. Здорово, мужики.
Пока он раздумывал, куда вести гостей – в кабинет или на кухню: последнее не располагало к долгому разговору, но близость холодильника могла спровоцировать выпивку, а пьяным он футбол смотреть не любил, значит, в кабинет, а там как рассядутся, так не выгонишь, и кофе таскать далеко, – Валерка Северцев прошел вперед, протянул руку и сказал:
– А ты уже ничего, по морде совсем не видно. Даже поправился.