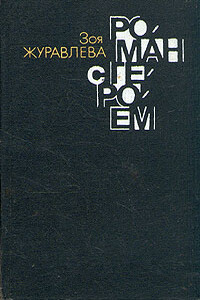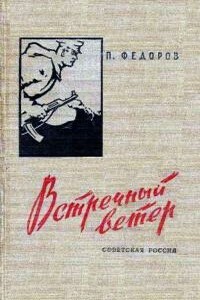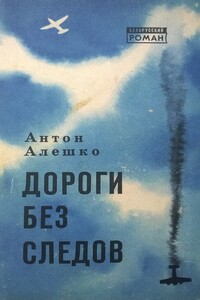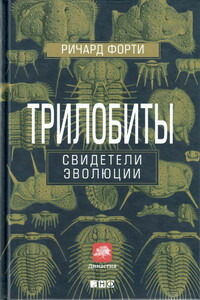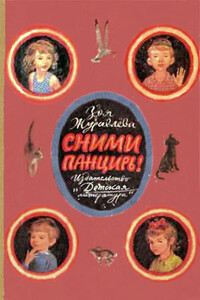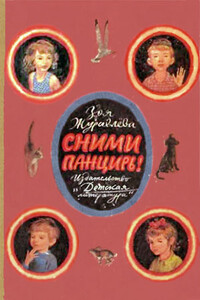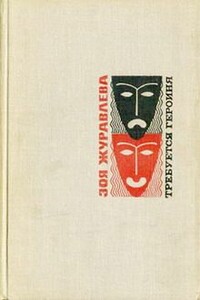Роман с героем конгруэнтно роман с собой
И вдруг мне все опостылело…
Эта фраза, пробившаяся из глубины, для начала годится. Есть в ней упругая сила Начала. Есть краткий вдох — «И». Как пригнуться — перед прыжком. И пружинная энергия взрыва — чернильно-синее до черноты: «вдруг», — раскручивающаяся потом неостановимо и вольно: «е-е-о-о-ы-е-о». Это как бы песня кочевника в ковыльной степи, состоящая из одной только фразы, которая, повторяясь, с каждым витком, однако, наращивает — непонятно как — силу свою, и смысл, и душевную информацию. Вроде бы мягкая, безвольная даже фраза, где — одно только «эр» и избыточно много «эл», два «эл» в конце. Кажется, что ее легко должна глушить ночь. И легко сбивать ветром. Но в ритмике этой фразы как раз кроется упрямая пространственная протяженность, перед которой прогибается ветер, и черная ковыльная ночь — горячими толчками — передает ее дальше, дальше, все дальше…
Это слишком литая и слишком энергично ритмически организованная фраза, чтобы передавать бессилие. Возможно, что она способна передать временный спад — перед подъемом. Выгодная для меня фраза, заметим в скобках.
Когда исчезнут вещи и дела, и даже след цивилизаций, вдруг прорастут из Времени Слова, осмыслив жадное Пространство. Все, что копили миллионы лет, Слова вдруг явят, запах свой и цвет, и форму, без которой Слова — нет. Ведь только Человек, сам вырвавший Слова из немоты, как джинна — из бутылки тесной, внушил себе, что Слово — бестелесно, что можно им распоряжаться кое-как, бросать на ветер как пустяк и ставить запросто — на место, лишь Человек наивный, так уж вышло, бесстрашно их лишает смысла. Слова — до времени — дают с собой играть, свою скрывая власть, но расщепленный атом содрогнется — от зависти, — когда терпенье это оборвется. Хоть можем долго мы еще бездумно жить, и мелочность свою в Слова рядить, и мелкостью своей Словам вредить, и говорить, и городить. Им — некуда спешить, у Слов — в отличие от нас — в запасе Вечность.
Часто нет ничего более бездоказательного, чем фраза, вырванная из контекста, именно поэтому цитаты порой обессмысливают критическую статью, где — вроде бы — есть концепция. Но бывают фразы самодостаточные, умри — лучше не скажешь:
«Я с ним контактируюсь по этому вопросу». — «Что делает завуч в плане подготовки, но в плане организаторском мы первые в этом вопросе». — «Если бы у нас в школах было благополучно с этим вопросом, у нас сейчас, честно говоря, и вопросов было бы меньше. Мы не обсуждаем этот вопрос, это для нас догма». — «А что будет, если этот вопрос мы пустим сейчас на самотек?» — «Нами отобраны лучшие в этом направлении». — «Мне, например, часто приходится выходить на школы». — «Директора нацелены на эту работу, но кто-то вовремя не вышел с инициативой». — «Необходимо обратить внимание на необходимость усиления в этом вопросе». — «У нас состоялся по этому вопросу аппарат. Работа предстоит серьезная — надо выйти на учащихся, выйти на родителей, возможно — придется выйти на вышестоящие инстанции, компетентные в этом вопросе…»
Еще куда выйти, дура ты стоеросовая? Но никто не спросит. В чистое поле бы с этим выйти, от людей подальше, где никто не слышит. Ну, цветы бы завяли, ну, травы бы полегли. А это ведь не колония слабоумных, а совещание «на уровне роно», где зал полон и глаза у многих, рта не раскрывших, блестят мыслью. Как объясняться нормальным людям с людьми, в сознании которых закреплены подобные языковые связи? Как они разговаривают дома, с близкими, с друзьями, со своими детьми? И как же их подпускать к чужим детям?
В школе могут работать лишь те, кто умеет сказать человеческим языком, остальных надо гнать. В младших классах надо изучать логику, ибо косноязычие — дефект мыслительного аппарата, тут не в запасе слов дело…
Как кто-то правильно подметил, на нас идет пещерный ветер, уж тянет шкурами и дымом, уж пахнет жареным давно, а мы живем упорно — мимо, а мы спешим неисцелимо на пляж, на службу и в кино. Как стрелы первобытных прерий, отпели прежние дуэли во имя нравственных высот…
Ну и писала бы себе детские книжки, раз получается. Он, например, взахлеб читал куски из моей последней на всех родительских собраниях. Он верит в печатное слово наивно и свято, как неандерталец. Он верит, что если написать идиллию, то подвигаешь мир к лучшему, к идиллии же. Я пишу идиллии. Понимая вокруг опустошенно и трагедийно, я пишу пасторали. Умные светлые дети с огромными глазами задают в моих книжках чистые и глубокие вопросы своим умным и чистым родителям. Мама любит папу. Папа любит маму. Или они не любят друг друга так мучительно, самозабвенно и чисто, что это та же любовь. Только с отрицательным знаком. Все идет к прекрасному в себе через муки, которые красиво осознаны яростным детским восприятием. На самом деле, естественно, — моим, но якобы детским. Никто никогда не делает подлостей и мелкостей. Мир вокруг яростно пахнет, распахивается, бесконечно раскручивается цветными полотнищами, как небо над тундрой, звенит своими красками и завлекает жить высоко, бескомпромиссно и чисто. И за всем этим стоит возвышающая душу грусть, когда все слишком хороши для этой жизни и потому эту жизнь непременно сделают достойной себя.