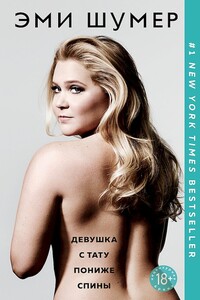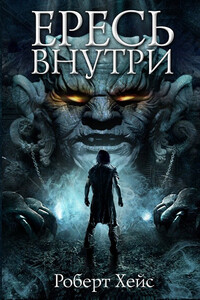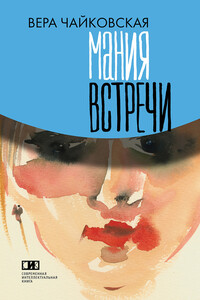Он не видел снов, не мучился воспоминаниями, не знал, кто он и откуда, а жил так, словно родился утром, а умрет вечером. В интернате за сотым километром, обнесенном глухим бетонным забором, у него не было ни имени, ни судьбы, и врач звал его Вторым, по номеру палаты.
Его лицо бугрилось шрамами, а рот был рассечен надвое, и, ощупывая себя короткими обрубленными пальцами, он не мог вспомнить свою жизнь до того момента, как, разбудив пощечинами, медсестра спросила: «Как тебя зовут?» С тех пор этим вопросом он начинал и заканчивал свой день — и, раскачиваясь на пружинистой кровати, бормотал под нос: «Как меня зовут? Как меня зовут? Как меня зовут?» В интернате жили безумные старики и дауны, так что санитарки делили между собой Второго. Они приходили ночью и, скинув халат, лезли под одеяло, целуя его шрамы, а охали так, что просыпались старики. Он не видел в темноте их лиц и различал лишь по мужским именам, которые они шептали ему на ухо, представляя вместо него киноактеров или чужих мужей.
Но в один из дней, который, как и все дни, должен был закончиться, не начавшись, в интернате появилась его жена. Упав на колени, рыдала, целуя широкие ступни, и отталкивала смущенного доктора, который пытался поднять ее с пола.
— Вы уверены, что это он? — протирая очки кончиком халата, спросил доктор, а санитарки, столпившись в дверях, прятали слезы.
— Андрей, — повторял Второй, пробуя свое имя на вкус, — Андрей Бродов.
— Андрюша, милый, что с тобой сделали, — рыдала жена, разглаживая пальцем его шрамы.
Дома его встретили сыновья, которые уже не помнили его голоса, и, обняв, испуганно расцеловали в колючие щеки, а высохшая от разлуки мать бросилась на шею.
— Сыночек! Кровиночка моя!
На протянутой в ванной веревке сушились носовые платки, насквозь вымокшие от слез, а жена не переставала плакать — даже когда они занимались любовью — и, проводя языком по изрезанному лицу, рассказывала:
— Исполнителей посадили, а его — нет. Как же, откупился! Клялся, что ты жив, давал деньги на поиски… — жена запнулась. — Помог мне открыть дело…
Андрей почувствовал, как треснул ее голос, и, взяв за волосы, притянул к себе.
— Тебя не было столько лет, я искала, ждала… — сильнее заплакала она. — Как ты можешь меня подозревать?!
В день, когда он исчез, мать начала вязать шарф, веря — пока стучит спицами, сын, где бы ни был, будет жив. Клубки шерсти прыгали разноцветными котятами, а она, всхлипывая, повторяла, как заклинание, его имя. Когда нитки кончились, она распустила старые свитера, затем — новые, неношеные вещи, а гости, приходившие в дом, приносили с собой по клубку, который доставали из кармана, словно игрушку для маленькой девочки. Шарф был уже таким длинным, что, свернутый в рулон, едва умещался в комнате, а теперь, закутывая сына, как младенца, мать рассказывала о его детстве и, листая фотоальбомы, пыталась вытащить из выжженной, как пустыня, памяти хотя бы воспоминание о воспоминаниях.
— Вот он! — ткнув кривым ногтем в фотографию, буркнула мать.
Андрей приблизил фото к лицу, разглядывая мужчин в лодке — себя, в охотничьей шляпе и рубашке с короткими рукавами, и его, в обрезанных шортах, загорелого, улыбчивого. «Помог мне…» — услышал он шепот жены, и кровь прилила к лицу.
— Лучший друг, будь он проклят! — Мать хотела убрать снимок, но Андрей, выхватив, спрятал за пазуху.
За огромным столом, разложив фотокарточки, газетные вырезки, перевязанные бечевкой дневники, засушенные в книге цветы, набитые безделушками шкатулки, заграничные открытки и детские рисунки, его родные заново проживали ту жизнь, о которой он забыл, смеялись, плакали, ссорились, мирились — и, сами того не замечая, сглаживали прожитое, подправляя и переписывая то, о чем не хотелось вспоминать.
— Вы похожи на меня? — спрашивал он сыновей, у которых было его лицо.
— Конечно, отец! — переглядываясь, смеялись они.
На экране его памяти замелькали черно–белые, обрывочные фильмы, в которых он видел жену, мать, детей, но не видел себя. Ночами ему снилась прошлая жизнь, но, проснувшись, он не мог ее вспомнить и, втирая в затылок мятное масло, плакал от головной боли.
— Мы были счастливы? — расчесывал он пятерней волосы жены.
— Очень, — улыбалась она, сама не зная, врет или нет.
Он донашивал свою старую одежду, а она висела мешком, словно с чужого плеча, открывал книги на загнутых страницах, перебирал музыкальную коллекцию, крутил видеокассеты, пытаясь полюбить то, что любил, и понять того, кем был.
— Человек складывается из прочитанных романов, заученных стихов, просмотренных фильмов, сорвавшихся с языка признаний, снесенных оскорблений, выпитых бутылок, подписанных бумаг, смятых простыней, из женщин, детей, родителей, друзей, одноклассников, соседей, случайных прохожих… — твердил он, разглядывая обрубленные пальцы.
— Хорошо, что ты вернулся, сыночек, — не слушая, обнимала его мать.
— Но если все это отбросить, что останется? — упрямо бубнил он. — Ничего? И это ничего — я?
Но мать понимала по–своему.
— В моем сердце ты все тот же мальчик, — кивнув на детский портрет на стене, мать провела сухой, шелушащейся ладонью по его изрезанному лицу.