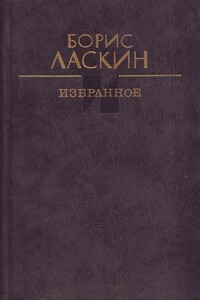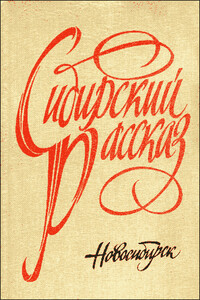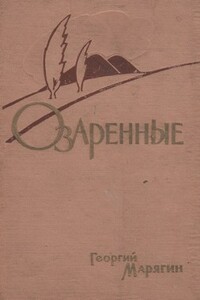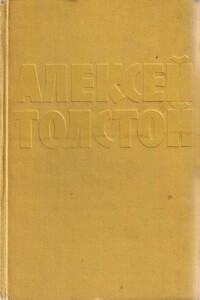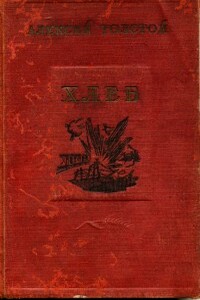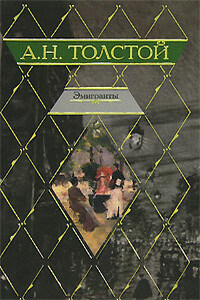На службе Ракитников был молчалив, слегка угрюм, но не мрачнее, чем всегда. После разрыва с женой его скверное настроение никому не казалось странным. Не знаю, — при особой какой-нибудь наблюдательности можно было бы заметить в нем отклонение от обычного. Но обстановка учреждения — шкафы с делами, телефоны, справки, столы, где чернильные пятна, окурки и мертвящий душу шелест бумаг — накладывает особую печать рассеянности на людей. Словом, наблюдать было некому.
Это было вчера, в субботу.
Что бы дождю идти в будни! Так нет, — с утра холодной сыростью завалило все небо. Когда-нибудь, конечно, наука додумается до всеобщей плановости и какими-нибудь искусственными лучами по воскресеньям станет разгонять гниль и ржавчину с неба, чистить его, как медный таз… Но ведь когда это будет?
Ракитников проснулся. По оконным стеклам течет. В мокрых крышах отсвечивает бело-серый дождливый день. Шумит вода в водосточной трубе.
Потянувшись за папироской, Ракитников увидел, что рукав на правой руке у него засучен. Это его удивило. Поднял голову и еще больше удивился: оказывается, лежал он совсем одетый на постели, жилет расстегнут, новый пиджак изжеван, брюки на коленках в грязи, рукав засучен по локоть, но башмаки сняты, — значит, оставалось все-таки кое-какое соображение…
Схватившись за голову, он застонал. Череп трещал, как арбуз. Но пусть бы болела голова — физическая боль пустяки, а в такую погоду даже может и развлечь отчасти. Но трудно было вынести общую проплеванность всего существа, невыразимую пакость, тоску сердечную… Хуже всякого головотреска… Ох!
Закрыв лицо, он покачивался. Хорошее забудешь, а вот вчерашнее всплыло со всеми запахами до мелочей. Со службы ушел в четыре. Так… На Невском встретились приятели с портфелями, — вернее, показались приятелями, потому что единодушно все заговорили об обеде с водкой. А по существу — серые пошляки, не люди, а понедельники… Пошли обедать. Пили водку под холодную осетрину… Сволочная, пошлая рыба, с хреном, с мелкой рубленой дрянью… Оркестр рвет барабанные перепонки. Крики, дым… Официанты — касимовские татары, и на бритых ликах презрение к современности… Шваркают блюда… Ну, хорошо, хорошо… Напились, наелись, отвалились… Когда вставать — брюки и жилет ползут вверх, в голове — чад, ноги свинцовые… И это тот самый светловолосый мальчик, «мамина радость»… Отмахал тридцать лет жизни, затрачены силы, деньги на воспитание, образование… И лезет рыгающим чудовищем из трактира… Ох!
Ракитников стал отгибать рукав пиджака, но пальцы дрожали, он только сломал ноготь, сморщился, бросил…
…Вывалились на дождик… Куда? Известно, — бар. Сели на извозчика, хотя пешком идти — три-четыре минуты… Ввалились… Пиво и раки…
Ракитников прилег, в тоске подсунул голову под подушку…
Ох, раки! Насекомые паукообразные, поедающие утопленников… И он ел это… В бога бы верить — помолился бы сейчас… Так… Ели раков, сквернословили, как полагается, угощали пивом трепушек-проституток… Подсел к столу какой-то неизвестный в форменной фуражке — мокрый зубастый рот, черная бородка, свинцовые кругленькие глаза… Попросил у Ракитникова механический карандаш Гаммера, начал строчить на папиросной коробке кому-то записку… И затем карандаш Гаммера исчез… Цена ему полтора рубля, ну и черт бы с ним — украл и украл… Вдруг всех охватила бешеная злоба… Ракитников и еще кто-то схватили чернобородого за пиджак и так начали трясти, что у того заколотились зубы, вылезли глаза, свалилась фуражка… Отдай карандаш! Подскочили охотники до скандалов… Началось… Дрались, должно быть, человек десять сразу… Выкатились клубком на улицу… Извозчики, привставая на козлах, засвистали, закричали: «Вали, вали, вали!..»
Дальше — провал в памяти… Ракитников сознал себя у чугунной решетки канала Грибоедова: он несся огромными прыжками, ругаясь шепотом так, как никогда не ругался… Потом — это дождливое окно, серая сырость, невыразимая тоска…
Нелепо, дико, непоправимо, катастрофично… Рачьей слизью перечеркнута вся жизнь… С чрезвычайной обостренностью Ракитников воспринял вчерашнее приключение… Надо сознаться, — не случись вчера драки, все бы, в сущности, обстояло нормально и благополучно. Ну, выпили лишнее, перекушали раков, писали на папиросных коробках записочки трепушкам… А кто этого не делает? Философски даже так можно поставить вопрос: это необходимо… После общественной нагрузки, которая, как за волосы, мотает человека с утра до вечера, полезно остаться хотя бы на часок самому с собой… Раскрыть клапан, куда устремятся душные остатки проклятого наследия, висящего у каждого бубновым тузом за спиной… Все пьют. Почисти желудок, проспись, и — как рукой снимет упадочное настроение, снова ты бодр и готов к нагрузке…
Так-то так… Но у Ракитникова уклонение от нормы. Много причин было к этому… Разрыв с женой: семь лет близости к милой, чистой и умной женщине пошли в архив. И одиночество — тоскливое, беззащитное ощущение своей смерти, — то, что он начал испытывать первый раз в жизни… И беспризорность — пустые, как темный подвал, вечера, шатанье к чужим людям, глухая тоска пивных, и ты, ты — лишний… И неустроенность — грязные простыни и нештопаное белье, неподметенная комната — словно пыльная паутина затягивала его холостые дни… Много было причин к тому, чтобы в дождливое утро он с отчаянной четкостью почувствовал: нет, совсем неблагополучно… Еще — и вот пойдешь на четвереньках, похрюкивая на прохожих…