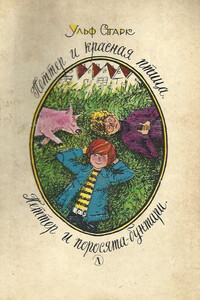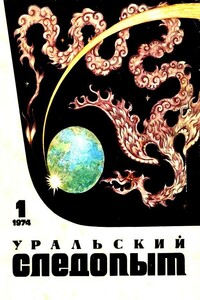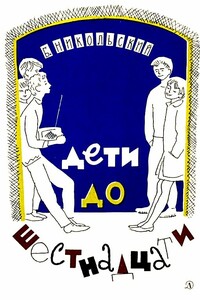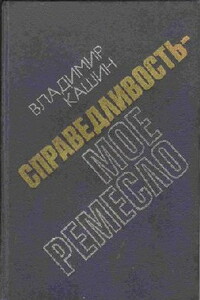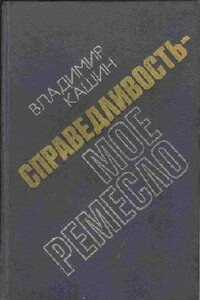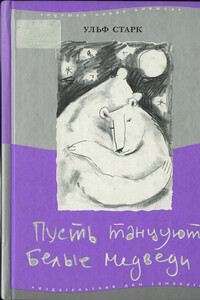— А ну, вставай, соня несчастный!
Это был Оскар.
Он стоял в дверях. А я разглядывал его в подводный бинокль — будто толстая рыбина с кустистыми бровями плавает на дне озера, где-то далеко-далеко. Это был отличный подводный бинокль, просмоленный по всем швам, а с обоих концов вмазано оконное стекло. На одной стороне я вырезал своё имя: Петтер Птицинг. Этот бинокль мы смастерили со Стаффаном ещё прошлым летом. Оскар тогда обещал взять нас с собой на рыбалку. Но из этого так ничего и не вышло. Всё время что-нибудь мешало. Пока про рыбалку вообще не забыли. А бинокль вот остался. Мы со Стаффаном испробовали его в ванной, чтоб проверить, как он увеличивает.
Чтобы было больше похоже на правду, мы напустили в ванну головастиков, которые быстро-быстро рывками сновали а воде. Потом нам было уже жалко их переселять. Видно было, что им очень хорошо в такой воде. Откуда мы могли знать, что Ева вдруг ни с того ни с сего придёт купаться и увидит их — шевелящуюся массу чёрненьких малявок. Стаффан был уверен, что в комнатной воде головастики чуть не сразу превратятся во взрослых лягушек. Так это или нет, нам не удалось узнать. Ева заставила нас немедленно убрать головастиков. Но всё это было уже давно. А с рыбалкой тем летом так ничего и не получилось.
— Давай пошевеливайся! А то я на работу опоздаю. — сказал Оскар.
Я повернул бинокль широким отверстием к себе. Теперь в стекле умещалось только лицо Оскара. Всё лицо у него было в белых хлопьях от крема для бритья. Надо, наверно, объяснить вам, что Оскар — это мой папа. Он в общем-то очень даже неплохой, когда не злится и не дёргается. А это с ним часто бывает. Особенно по утрам, когда ему надо на работу. И по вечерам, когда он усталый, потому что работал. В то утро он был такой вот дёрганый.
Я перевёл бинокль так, чтобы видно было Лотту. Она уже оделась. Лотта — это моя сестра. Ей только шесть лет, но она не глупее любого десятилетнего, это я прямо говорю, хотя мне самому десять. Я правда так считаю. И на личико она хорошенькая, с этими своими длинными каштановыми волосами. Сам-то я никакой не красивый. Про меня такого не скажешь.
В то утро настроение у меня было ужасное. Неохота было вставать. Я лежал и думал, до чего ж неприятно знать, что ты должен вставать — каждое утро, кроме воскресенья и праздников, день за днём, год за годом, до бесконечности, до самой пенсии. Хотя дедушка, я помню, говорил, что когда станешь совсем уж старый, такой вот жутко старый, как он, и попадёшь в дом для престарелых, то приходится вставать чуть ли не среди ночи, а потом всё сидишь, глотаешь таблетки и вспоминаешь свою жизнь, которой теперь пришёл конец. Но дедушка у нас любит преувеличивать, так что не знаю, можно ли этому верить.
В общем, я решил, что и не подумаю вставать, ни за что не встану. Пусть говорят что хотят — я буду лежать.
— Ну-ка, лодырь, поднимайся, — сказала Ева и потянула с меня одеяло.
— Я сегодня не встану! — крикнул я. — И вообще. Кончено с этим дурацким вставанием.
— Что это с тобой? — сказал Оскар. — Ты что, заболел?
— Ещё чего. Но это ж просто обалдеть можно, как подумаешь, что всю жизнь каждое утро надо вставать. А почему бы и не лежать?
— Хватит болтать глупости. Разлёгся тут, будто султан, а я готовь ему завтрак. Что я тебе, рабыня? Долежишься до того, что опоздаешь в школу.
Но я твёрдо решил не вставать. А я могу быть и очень упрямым, если что решил. Я тогда прямо чувствую, как где-то внутри у меня сидит воля, такой горячий, живой комок. Иногда такое чувство, будто это она мной распоряжается. Я сам вроде бы уже и сдался, а она всё равно не сдаётся.
— Я всё равно не встану! — сказал я. — Я решил лежать теперь до конца своей жизни.
— К чёрту, Петтер. Придётся тебе поднатужиться. У меня нет времени обсуждать твою жизнь. Через пятнадцать минут мне надо выходить.
— А я-то тут при чём? Сказал — не встану, и точка. Это решено.
— Только не мной. Живо вставай, чучело гороховое! — Оскар разозлился, и его можно было понять. Он нервничал, и спешил, и чувствовал своё бессилие, но я тоже был бессилен. Я был в руках у какой-то силы внутри меня, которая приказывала мне ни за что на свете не вставать. Если честно, мне даже хотелось послушаться Оскара, но я просто не мог.
— Я не собираюсь вставать, — сказал я. — Никогда в жизни. Ты можешь делать, что хочешь, — ничего не поможет. Можешь ругаться, орать, щекотать меня, или колоть меня булавками, или трахнуть какой-нибудь доской, или поставить мне на живот горячий утюг, или вылить на меня ведро воды. Я всё равно буду лежать.
— А правда, Оскар, — сказала Лотта. — Поставь-ка ему на живот горячий утюг, а я буду щекотать его под мышками.
И она состроила одну из своих страшных рож. Надо вам сказать, что Лотта — большой специалист по рожам. Я не знаю никого, кто умел бы строить такие рожи, как она.
Я весь сжался. Оскар делается иногда просто бешеный. Лицо у него тогда становится всё красное, а сам он из обыкновенного человека превращается в какого-то великана. А глаза как щёлки. Посмотришь на него — и то страшно.
Поэтому я зажмурился. Я постарался представить себе, что я — камень, острый, твёрдый, холодный камень, только попробуй поддать его ногой — сразу поранишься. Такой тяжёлый, серый камень, который тысячи лет пролежал на одном месте и еще тысячи лет пролежит, пока не настанет конец света.