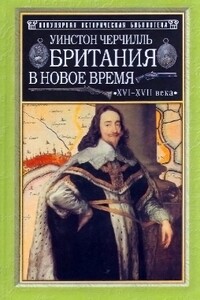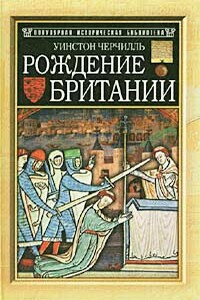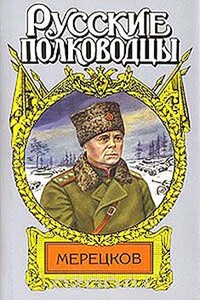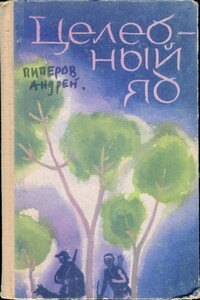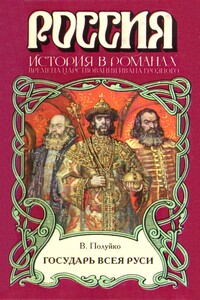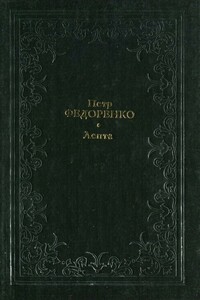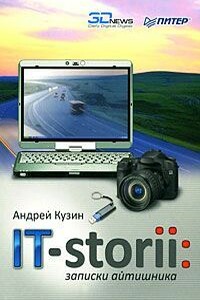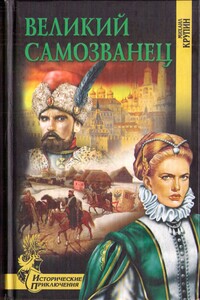МОЖНО ОБОЙТИСЬ И БЕЗ ДУЭЛИ
Каждую ночь в Кремле бился огромный костёр. К нему сходились со всех караулов. Костёр слагался из лишённых корней и крон сосен. Лес в избытке вынимали из Москвы-реки и, протаща в Троицкие ворота, бросали у стены — на постановку государева чертога. Отцов деревянный терем Дмитрию уж не годился, а жить во дворце павших воров, с одной стороны, зазорно, с другой — совестно.
И бодро день-деньской от Безымянной башни, не смолкая и в часы соборных служб, шаркали пилы, тюкали лучшие топорики Москвы.
Леса было много, и никто не лаялся на постовых, что тибрят брёвна на костёр. Те и сидели вкруг огня на длинных неочищенных стволах, и в карты играли и спали на брёвнах, и зернь об них чеканили, а потом жгли их. Чуть только свет ослабевал, вставали два богатыря: приподняв один «хлыст», ступали к огню ближе. Жмурясь и скалясь на красивый жар, «хлыст», раскачав, ровно отправляли вдоль других лесин, уже иссосанных с шумом чудесными языками. Случалось, одно или несколько брёвен выскакивало из костра и, веретеном разматывая пряжу пламени, накатывалось на солдат. Караульщики, как лягушата, прыгали, под собой пропуская брёвна, и, догоняя, укрощали их водой из приготовленных бадей. Такое происшествие каждый раз с лихвою возвращало залихватский вид всей то и дело распадающейся и задремывающей компании, попирало тоскливое время огнём и бревном.
Поблизости казалось — столб костра далеко теснит ночь, но треск уходящего в свет дерева, гомон пищальников и казаков заглушались уже в двадцати саженях теснотой построек. Жуткий жар в трёх шагах от кружка пропадал без следа, только сильнее холодили при воспоминании о нём потоки ночи.
Из верхних окон близких важных теремков, на одном ряду с третьим жильём[1] дома князя Мосальского, этот костёр был ощутим померанцевой дрожью над чернотой тына, отсветом, напоминавшим дождливый закат, жалко мешкающий на земном скользком пороге, чтоб опрокинутой улыбкой присоветовать дождю — спрятать куда-нибудь во тьме свою печаль и верить дальше в свою морось.
— А тихо как сегодня, хорошо. Я вчера на стенах замка думал, у меня голова разорвётся от боя всех этих часовен на тысячу дробин, — говорил гетман Дворжецкий ротмистру Борше на другой день после царской коронации.
— А мне перед закатом показалось, — поделился впечатлением и Борша, ротмистр, — это все добрые мысли вылетают вборзе из моей звереющей башки и изнутри звенят о каску. Ещё бы: все колокольницы били без роздыху дотемна. Здесь необходима привычка. Ведь на Москве на каждый, даже на несильный праздник так. Праздников же у них... — календарь!
При слове «привычка» Дворжецкий полез в колет и достал трубку и ступку с кисетом.
— Меня больше поражает, — сказал он, уминая табак, — что сама Москва как бы не слышит своего малинова содома! Нам приходилось каждому жолнеру разряжать в ухо приказ, тогда как русские — на расстоянии двух сажен московит от московита — только шевелят губами, а всё им ясно — якобы стоят одни в немом лесу!
Дворжецкий и Борша сидели на белокаменной завалинке в тени караульни и смотрели, как их молодые соратники и подчинённые играют перед нарядом в саксонские кегли на короткой травке выкошенного угодья. Посольский двор был огорожен длиннейшими толстыми кольями, и время его укромной тишины прерывал лишь миг соударения вязовой клюшки с кленовым мячом да выклик более трепетного игрока при избытке огорчения или удачи.
— Коронация Дмитрия прошла довольно скромненько, надо сказать, — сказал дальше Борша (на самом деле он не чувствовал особой надобности это говорить, но тем легче и уверенней распространялся). — Наши новые друзья, ландскнехты, видевшие прежние венчания, в общем, подтверждают, что на сей раз обошлось без лишних трат... Конечно, если не считать горящего ковра на пути от Пресвятой Девы Марии до Михала-архистратига да несколько пригоршней золотых стоимостью в иохимсталер, высыпанных князьями на помазанника.
— Так то были казённые, а не карманные их деньги? — удивлённо отпустил из губ чубук Дворжецкий.
— Так, пане. Выдоят кутаные скареды свой кошт! Да личных золотых монет в этом краю и вестись ни у кого не может. Казна чеканит их для обращения промеж царём и венценосными его соседями. По случаю высоких поздравлений, контрибуций, ну, и там...
Дворжецкий почмокал вокруг чубука.
— Тогда вовсе не стоило ничем сорить, — рек он, далеко, до лёгочного днища, затянувшись. — Чуть минула война, разбойные крамолки, рокот[2] беспредельный, ясно, казна былою полнотой не хвастает, обольстительными закруглениями цифр... — Дворжецкий сваял где-то внутри и ловко из-под усов вытеснил на волю бесшумную цепочку чётко-зыбких дымовых колечек — меньшее за большим, ноль за ноликом. — Добрым ли жолнерам пугливо жмуриться, точно балованным гайдукам, на временный туск блеска русского двора?