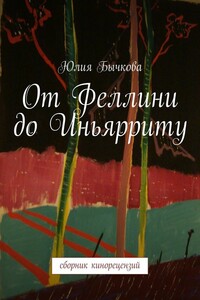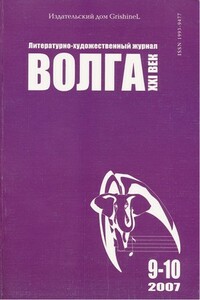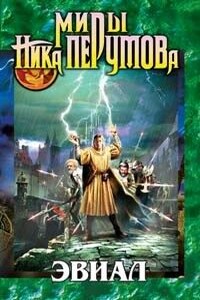Вот одно из тех произведений, которые называются капитальными произведениями литературы, которые пишутся не для одних современников, но и для потомства, переживают века и народы. Много нужно таланта, чтобы описать верно только внешнюю сторону книги почтенного ветерана нашей литературы: найти же единство воззрения и мысли в торжественно праздничном вдохновении, которым проникнута, и в лирическом беспорядке и отрывочности, которыми запечатлена ее внутренность, – это просто дело гения. Будучи слишком далеки от самолюбивой мысли предполагать в себе гений и почитать себя способными разоблачить перед читателями все богатство, всю оригинальность содержания книги почтеннейшего С.Н. Глинки – даже только познакомить их с ее оригинальною внешностию и восторженно-лирическим способом ее изложения, напоминающего торжественные оды прошлого века: – мы тем не менее, хотя и со страхом и трепетом, хотя и с полным сознанием своего бессилия и недостоинства, но все-таки попытаемся на этот великий подвиг.
Во-первых, книга почтеннейшего С.Н. Глинки приводит читателя в изумление уже самым заглавием своим: всякий (особенно кто, подобно нам, не одарен тонкою проницательностию и догадливостию), всякий легко может подумать, что «очерки жизни» в этой книге так же принадлежат Александру Петровичу Сумарокову, как «и избранные сочинения Александра Петровича Сумарокова». Естественно, тут рождается вопрос: но чьей же жизни очерки писал Александр Петрович Сумароков? Вот тут-то и первый камень преткновения, и первая важная ошибка со стороны ограниченных людей, не способных понимать гениев: «Очерки жизни» написаны почтеннейшим С.Н. Глинкою, а «Избранные сочинения Александра Петровича Сумарокова» написаны Александром Петровичем Сумароковым. Во-вторых, книга почтеннейшего С.Н. Глинки весьма предусмотрительно снабжена целыми тремя заглавными листками, которые все разнятся один от другого: первый в узорной рамке и с означением «часть первая», но без означения типографии; второй без узорной рамки, но с означением типографии, в которой книга напечатана; третий без узорной рамки, с означением части и без означения города, типографии и года, но зато с двумя эпиграфами из Сумарокова и Шатобриана. За этими тремя листками следует четвертый, на котором крупными литерами значится: «Приношение памяти ЕкатеринЪ (ы) Второй, любительницЪ (ы) русского слова и августейшей русской писательницЪ (ы)». Затем уже следует посвящение, которого по недостатку времени и места не разбираем: ибо для одного этого потребовалось бы целой и притом большой статьи. За посвящением следует «Первый взгляд на Сумарокова писателя», в котором (первом взгляде на Сумарокова (как?) писателя) С.Н. Глинка говорит, что, приступая к возобновлению «Русского вестника»[1], он решился перечитать прежних наших писателей и начал с А.П. Сумарокова, в сочинения которого он не заглядывал лет двадцать. Начав читать А.П. Сумарокова, С.Н. Глинка удивился его (А.П. Сумарокова) прозаическим статьям и тому, что он (А.П. Сумароков) предъявлял о собрании, соображении и приведении законов в единство, и об обществе для сохранения чистоты русского слова, и предъявил об учреждении хлебных магазинов. За «Первым взглядом на Сумарокова писателя» следует «Второй взгляд на Сумарокова писателя», в котором содержится, что Ломоносов напрасно упрекал Сумарокова в подражании Расину[2], что Тредьяковский «в грозной критике» напрасно подозревал Сумарокова, что тот осмеял его в «Трисотиниусе»[3], что «Илиада» есть подражание египетским надписям на развалинах стовратых Фив; что весь мир подражал; что Сумароков «знал и оценил красоту Шекспира» и знал голландского трагика Фонделя[4]. В «Третьем взгляде на Сумарокова писателя» говорится, что сочинения Сумарокова и при жизни его были искажены и издателями и им самим: ибо он «в рассеянном состоянии мысли, и сам портил свои трагедии, добиваясь богатых, звучных рифм, ко вреду силы выражения»; что когда публика освистывала некоторые из трагедий Сумарокова, он очень красноречиво восклицал:
Возьмите свет из глаз и выньте дух мой вон.
[5]Словом, в «Третьем взгляде на Сумарокова писателя» содержится много интересного, из чего видно ясно, как день Божий, что он, Сумароков, был великий писатель. Только напрасно «Третий взгляд» приписывает Сумарокову (стр. VIII) фразу: «Но неужели Москва более поверит подьячему, нежели Вольтеру и луне»; Сумароков сказал то же, да не так, а вот как: «Но неужели Москва поверит более подьячему, нежели г. Вольтеру и мне» (см. «Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе, покойного действительного статского советника, ордена св. Анны кавалера и лейпцигского ученого собрания члена Александра Петровича Сумарокова», т. IV, стр. 62); о луне же Сумароков и не думал упоминать, говоря о г. Вольтере, после которого он, по сознанию своего достоинства, естественно мог говорить только о собственной особе. За «Третьим взглядом» следует «Содержание и обозрение десяти частей сочинений А.П. Сумарокова, изданных Н.И. Новиковым». В этом отделении особенно драгоценны комментарии С.Н. Глинки, равно как и многие факты русской литературы. Например (стр. XX–XXI), он доказывает, что Озеров выучился так хорошо писать трагедии (в старину за поэзию брались на выучку – не то, что ныне, по призванию) у Сумарокова, и приводит свой разговор об этом с Озеровым. Вот слова Озерова: