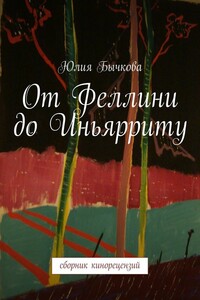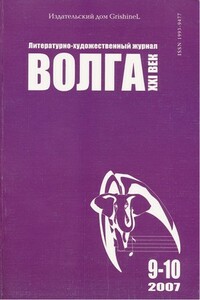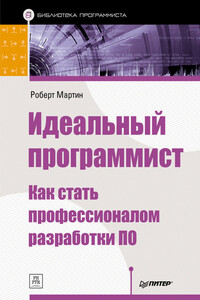В начале 1960-х годов Иосиф Бродский, вернувшись из поездки в Москву, прочитал мне по памяти стихотворение. Помню, как он читал — горячо, увлеченно:
Нас хоронила артиллерия.
Она сначала нас убила
И, не гнушаясь лицемерием,
Клялась потом, что нас любила.
Она раскаивалась жерлами,
Но мы не верили ей дружно
Всеми искромсанными нервами
В руках полковников медслужбы.
Мы доверяли только морфию,
По самой крайней мере — брому,
А те из нас, что были мертвыми, —
Земле неверной, но знакомой.
А тех из нас, что были мертвыми,
Земля, кружась, не колебала,
Они чернели натюрмортами
Готического Калибана.
Нас поздравляли пэры Англии
И англичанки восковые,
Интервьюировали б ангелы,
Когда б здесь были таковые.
Но здесь одни лишь операторы
Из студии документальных фильмов
Накручивают аппаратами,
А их освистывают филины…
Один из нас, случайно выживший,
В Москву осеннюю приехал.
Он брел по улицам, как выпивший,
Он меж живыми шел, как эхо.
Кому-то помешал в троллейбусе
Ногой искусственной своею.
Сквозь эти мелкие нелепости
Он приближался к Мавзолею.
Там все еще ползут, минируют
И отражают контрудары,
А здесь уже иллюминируют,
Уже кропают мемуары.
И здесь, вдали от зоны гибельной,
Лиловым лоском льют паркеты,
Большой театр квадригой вздыбленной
Следит салютные ракеты.
И здесь, по мановенью Файера
[2],
Взлетают стати Лепешинской,
И фары плавят плечи фрайера
И шубки женские в пушинках.
Солдаты спят. Им льет регалии
Монетный двор порой ночною.
А пулеметы обрыгали их
Блевотиною разрывною.
Но нас не испугает ненависть
Вечерних баров, тайных спален.
У нас защитник несравненный есть —
Главнокомандующий Сталин.
И отослав уже к полуночи
Секретарей и адъютантов,
Он видит: в серых касках юноши
Свисают с обгорелых танков.
На них пилоты с неба рушатся,
Костями в тучах застревая.
Но не оскудевает мужество,
Как небо не устаревает.
Так пусть любовь и независимость
Нас отличат от проходимцев,
Как отличил Генералиссимус
Своих неназванных любимцев
[3].
Стихотворение потрясло меня. — Кто автор? — спросил я. — Слуцкий?
— Нет. Полковник Львов.
— А кто это?
— Не знаю. Так мне сказали.
Сегодня известно: Иван Александрович Львов-Иванов — фигура реальная. Владимир Корнилов в своей мемуарной статье (см. далее) сообщает о нем, что «полковник», участник Гражданской войны, служил в 1940-е годы заместителем директора по хозчасти Литературного института. Известно также, что в 1949 году Львов-Иванов был секретарем парторганизации Литинститута. Об этом «странном, молчаливом человеке», который явно покровительствовал вольнодумцам послевоенной поры и не желал клеймить евреев-«космополитов», сочувственно вспоминает и Е. Ржевская в автобиографическом повествовании «Домашний очаг. Как оно было»[4].
Я попросил Иосифа записать стихотворение и тогда же его запомнил; вернее сказать, оно само, легко и естественно, легло в мою память. А лист бумаги, на котором оно было записано, затерялся — не помню, при каких обстоятельствах.
Кто же на самом деле был автором? Я узнал это в августе 1989 года. Открыв журнал «Огонек», я увидел рубрику (ее вел Е. Евтушенко) «Русская муза ХХ века» и сразу наткнулся на знакомые строки «Нас хоронила артиллерия…». Тут же было названо имя автора — Константин Левин — и указаны даты его жизни: 1924–1984. Но что случилось! — стихотворение было напечатано в совершенно иной редакции, с пропущенными строфами, искалеченными, искаженными строчками и какой-то неуклюжей, вымученной концовкой:
И знал солдат, равны для Родины
Те, что заглотаны войною,
И те, что тут лежат, схоронены
В самой стене и под стеною
[5].
Калибан и Генералиссимус, пэры Англии и восковые англичанки — все куда-то исчезло.
Объяснение я нашел в короткой справке, написанной Евтушенко. Приведу ее полностью:
Знаменитое стихотворение Левина «Нас хоронила артиллерия» ходило по рукам в послевоенной Москве вместе со стихами Наума Коржавина. Константин Левин, элегантный независимый холостяк, жил литературными консультациями, к публикациям, казалось, не стремился. Перед самой смертью, по моей просьбе, сделал новую, лучшую редакцию своего шедевра. По мнению Слуцкого, один из лучших поэтов фронтового поколения[6].
Не берусь судить, насколько достоверны эти пояснительные строки, не лишенные самолюбования и снисходительности к собрату-неудачнику. Но особенно удивило меня заявление Евтушенко о том, что новая редакция является «лучшей». Даже неискушенный в поэзии читатель может убедиться (сравнив первоначально написанные строфы с теми, что опубликовал Евтушенко), какой текст «лучше». Впрочем, огоньковская «публикация» не была первой: стихотворение Левина — в том же усеченно-изуродованном виде — было впервые напечатано в журнале «Дружба народов» (1986, № 5), а затем вошло в посмертный и доныне единственный сборник К. Левина «Признание»[7]. Именно этот текст, признанный как «последняя авторская воля», и тиражируется с тех пор — и на бумаге (в разного рода сборниках и антологиях русской поэзии второй половины ХХ века), и в Интернете.
Стихотворение, действительно ходившее по рукам, было с давних пор хорошо известно поэту Владимиру Корнилову, товарищу Левина по Литературному институту. Прочитав его в новом и «улучшенном» варианте, Корнилов сразу же усомнился. «…Странная вещь, стихотворение от этого что-то потеряло», — пишет он в статье, посвященной Константину Левину. И приводит несколько строк, глубоко осевших в его памяти: