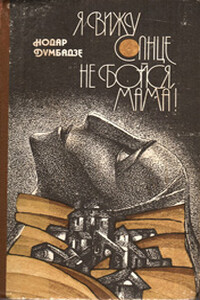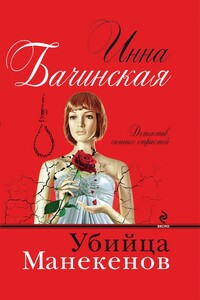Мать стояла в углу на коленях и молилась — то вскидывала маленькую острую голову к сумеречной, медно-желтой иконе, то вдруг надламывалась в пояснице, падала головой, и слышен был тупой стук лба о пол.
— Пресвятая богородица, матерь божья.
Окна в доме были красные — где-то далеко за сопками занимался закат, и смутные тени от качавшихся во дворе ветвей лиственниц, казалось, медленно колыхали занавески, дымными видениями проплывали по стенам.
Отец пил водку, навалясь грудью на стол, широко расставив локти. Сдвинутая клеенка взбугрила ворох рыбьих костей, отгородила от него бутылку. Стекло розово, нежно светилось в слабых закатных лучах, и отец строго, молитвенно смотрел на белую сургучную головку.
Наська неслышно сбросила тапочки у порога, прошла к деревянной лавке у печи, поставила ведерко с молоком. Было тихо и сонно. Она села на лавку, завернула в фартук мокрые, напухшие руки.
В ведерке опадала пена, сухо лопались пузыри, и сильнее, гуще пахло парным молоком. Мать молилась, отец, кажется, прислушивался к ее горячему шепоту, мутно-красно светились окна, и утробно, по-животному охало и дышало за стенами спокойное море. Наська тоже молилась.
Она знала молитвы, но молилась по-своему, раздумывая и разговаривая с собой. «Чего ты хочешь? — спрашивала она себя и отвечала: — Хочу, чтобы хорошо было всем-всем, и мне тоже. Чтобы шторм не побил пароходы, чтобы отец наловил много рыбы, чтобы бог наконец простил за что-то мать, ее «душу грешную», и помог накопить денег, чтобы американцы не напали на Кубу и не убили Фиделя Кастро, чтобы хромой Иван, мой жених, вылечил ногу, простреленную из ружья… Пусть ему будет хорошо, пусть всем будет хорошо. А себе хочу совсем немножко — чтобы Иван не женился на мне, отказался от меня. Тогда отец перестанет бранить меня и мать».
— Пресвятая богородица… Молись за нас, грешных…
Отец протянул короткую, бугристую руку, схватил за горлышко розовую бутылку, поставил рядом с собой. Бутылка погасла, стала тускло-зеленой, лишь у самого дна остро прыгала розовая искра.
Икона отодвигалась в сумрак угла, растворялась, обращаясь в какой-то невидимый дух, а голова матери то возникала над столом, то исчезала, и тогда горячечный шепот доносился снизу, от темного пола.
Тенью шевельнулся отец, сверкнуло стекло, и звонко, чисто забулькала водка.
Во дворе жалобно, просительно замычала корова. «Хорошо поторговал рыбой», — подумала об отце Наська, встала тихонько, опустив голову, пробралась к двери и вышла на улицу.
Закат чуть краснел на густой темени неба, а из моря желто всходила луна. Блики, качаясь, бежали через встревоженную ширь к берегу, по мокрому песку подступали к самому крыльцу. Море было легким, высоким, мягкий прибой толчками бросал на берег воду и сырой теплый воздух. По мокрой траве, как по воде, Наська побрела к стойлу.
Куры постанывали во сне, цепко схватив лапами нашест; гуси едва приметными белыми комьями лежали в углу, спрятав головы под крылья. Жирно пахло отрубями, зерном, навозом; тяжело взлетали и сонно гудели мухи. Одна ударилась в Наськину голую ногу, упала, зло забилась в навозной жиже.
Корова повернула голову, мигнула большим черным глазом, дохнула молочным паром. Наська бросила ей охапку травы, посыпала солью, и, когда наклонилась, корова лизнула ее в щеку шершавым, как терка, горячим языком, обволокла волосы длинной липкой слюной.
Наська провела рукой по мягкой шее коровы, нащупала около уха репейник, осторожно выдрала его и вышла из стойла. Корова шелестела, похрустывая травой, потревоженные гуси тихо гоготали в своем душном углу, будто спрашивали: «Чего-го, чего-го?»
На заборе висела сеть. Наська потрогала ее — она была влажной, веской, холодно поблескивала кетовой чешуей. «Отец сушит сеть ночью», — подумала Наська и привалилась спиной к забору.
Старые дощатые дома черно горбатились вдоль светлого берега, были пустынные, глухие. Ни огонька, ни звука. Люди уже давно не жили в них, ветер выдул в выбитые окна и отворенные двери запах пищи и вещей, стены стали просто гниющим деревом. Летом полы в комнатах мокры от дождей и туманов, зимой под самые потолки вырастают твердые сугробы, а потом и крыши тонут в ревущей пурге. Особенно сиротливо зимой; летом хоть иногда в домах ночуют охотники и рыбаки.
Когда-то село звалось Алексеево — почти все переселенцы были из волжской деревни Алексеевки и с собой привезли на Сахалин память о родине. Потом, когда дома опустели, веселые ночлежники-охотники назвали их — Заброшенки. Так и прижилось это слово.
Поселок бросили люди. Место здесь трудное — открытое морю, отдаленное. Объединились с соседним колхозом, переселились южнее, в большое село.
Но не все. Вон на окраине, за речкой на взгорке, где растут серые огромные лопухи, вспыхнуло красным, как от бессонницы, глазом окно — это засветили лампу в доме Коржовых, отца и матери Ивана, ее жениха.
Наська вспомнила, как весной привезли Ивана с простреленной ногой, как стонал он в лодке, открыв пересохший рот, а когда подняли его, она увидела — брюки, спина намокли: никто не догадался отлить из лодки воду… Потом, летом, в один пустой дом ударила молния, и он загорелся; горел долго, страшно, черные хлопья пепла сыпались на море.