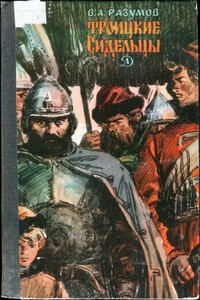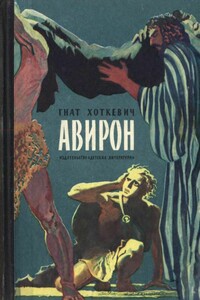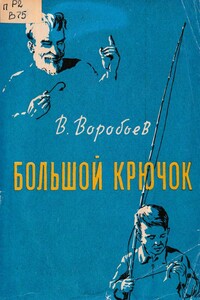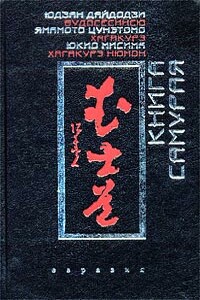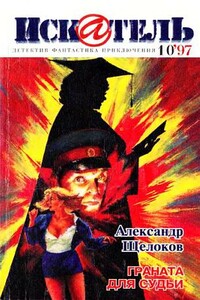Берег сырой и голый, купальщиков, самых смелых, три-четыре, а загорающих вовсе не видно: море штормит, все оно косматое, шумящее и грохочущее. Волны бегут, пожалуй, от самой невидимой Турции, вырастают за долгую дорогу, набираются злости; приметив вдруг на своем пути черные камни, волны вздыбливаются еще выше, хотят снести, раздробить камни, но сами взлетают мелкими брызгами, будто кто-то взрывает их снизу, затихают и, жалобно шипя, растекаются гладкой белой пеной: им очень не хочется умирать.
Русик идет к большим валунам на мысу — только там, в маленькой лагуне, за мшистыми спинами камней, можно наловить бычков. На нем старенькая вельветовая куртка, потертые техасы, запоясанные по-взрослому широким ремнем, красные кеды — очень удобная для рыбалки обувь; в одной руке — удочка, другой он придерживает сумку на боку с кое-какой едой (сумку мать сшила из новенькой, с зелеными и красными кубиками клеенки, а ремешок он сам прикрепил, простой брезентовый, от школьного ранца). Волны гремят, раскатывают по берегу гальку. Большие волны, разбившись, отступают особенно далеко, и тогда Русик подбегает к намытым водорослям, выхватывает из них одну или две — сколько успеет — ракушки-мидии, кладет их в клеенчатую сумку. Это наживка. В шторм не добудешь морского червя — лучшей, любимой всеми рыбами пищи, не наловишь сачком рачков-креветок, даже блох-прыгунков, живущих под крупными гальками (этих прыгунков обычно собирай горстями), сейчас не отыщешь: все отобрал шторм, накрыл водой. Зато волны срывают с донных камней мидии и швыряют на берег. Пустячная наживка, но раз не запасся хорошей — радуйся этой. Море само к ногам подкидывает и словно бы ворчит радушно: я ведь совсем без ничего не оставлю, я богатое, я сочувствую рыбакам.
Среди камней, у грохочущей кромки прибоя, Русик замечает одинокого удильщика. «Наверно, старик Шаланда. Ну да, тощий, согнулся от холода. В такую погодку, кроме него, никто и не ходит за бычками». Русик шагает живее, чтобы застать старика, а то скучно будет одному среди шума и грохота. Под глинистым обрывом мыса он снимает техасы, кладет на сухое, прижимает сумкой, мидиями набивает карманы куртки; и так, в кедах, трусах и куртке — кеды спасают ноги от колких камней, куртка от ветра,— идет к лагуне, заплывшей кипенной пеной. Надо пробраться на тот длинный рубчатый камень, напоминающий издали спину крокодила: его почти не заливает волна и за ним есть «окошко» спокойной воды. Русик нащупывает кедами дно, чутко шагает, вспоминая, где и какие камни лежат, и все-таки соскальзывает в яму — трусы и низ куртки тяжелеют, делаются холодными. Теперь нечего осторожничать. Он бредет напрямик, а Шаланда, раскрыв беззубый рот, еще больше согнувшись, беззвучно хохочет, как в кино с пропавшим звуком, или наоборот — можно подумать, это из черного рта старика несутся оглушающие все на свете звуки.
Русик вскарабкался на камень-островок, размотал леску, подошвой кеды раздавил мидию, наживил скользкую желтоватую мякоть, опустил крючок в чистую глубину у стенки камня.
Шаланда рыбачит под самым прибоем; огромные валы, кажется, вот-вот сшибут его, кувырком протащат через гряду камней и неживого бросят в лагуне. Но старик смеется, что-то кричит, мотая белой мокрой, распатланной головой: рад, наверное, что появился напарник. Хотя в ясные дни Шаланда до трясучки не любит, если кто-нибудь забрасывает удочку в его «ямку». Говорит, шипя и плюясь: «Ты мне на горб залезь, любимец, али еще луче, полезай в море, с крючка мово сымай». Даже Русика гонит, которого помнит, по его словам, «с первого дня появления на берегу». Ему нельзя не наловить — рыбу старик продает, почти задаром, правда, однако не может не продавать: пенсию старуха за него получает сама и покупает только одну «бутылешку махонькую». Про эту мучительную беду Шаланды знают все жители, от десятой станции курорта Большой Фонтан до конца города, и уже давно никто не подшучивает над ним.
Русик поймал крупного бычка, снял его, теплого, мягкого на прохладном ветру, положил в сырую расщелину камня, и бычок замер, ослепший, оглохший после полусвета и тишины морского дна. Бычки не трепещут, не бьются, как другие рыбы, они берегут себя и долго живут на воздухе.
Мокрый, иззябший старик, казалось, не ловил, а выметывал бычков из пены прибоя. На кукане у него, в тихой воде, колыхалось уже штук тридцать, одинаковых, с ладонь величиной. Вот попалась ему маленькая рыбешка; он резко, не снимая с крючка, ударил ее раз-другой о камень, сшиб, поправил наживу (у него, конечно, морской червяк!), быстренько забросил снова. Зачем Шаланда убивает рыбу, почему не отпустит, если она ему не нужна? Жестокий старик. Или лень возиться с мелочью? Надо поговорить об этом, когда он будет в хорошем настроении, особенно после пивбара «Якорь».
Поплавок нырнул косо в зеленую темень водорослей, качающихся будто под ветром, Русик слегка дернул удилище, подсек и плавно повел руку вверх, чуть наискось, чтобы не запутать леску в цепкой водяной траве. Бычок легко, словно бы сам этого захотел, выскользнул из воды, шлепнулся в левую ладошку Русика. Он подержал его немножко, грея руку, положил рядышком с первым. Клев наладился, Русик следил лишь за поплавком, не слыша прибоя, вовсе позабыв о старике Шаланде. Только раз, когда ветер сорвал макушку волны и брызги картечью ударили ему в лицо, он подумал, вдруг засмеявшись: «Вот я и конопатый — брызги соленые исконопатили меня».