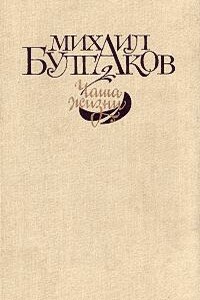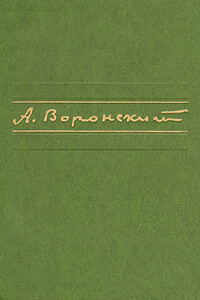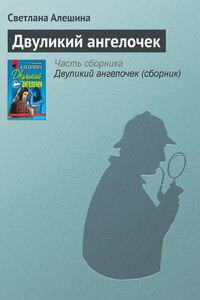Василий Шукшин
Самые первые воспоминания
Я начинаю помнить себя с такого случая.
Знойный полдень. Сенокос. В селе, на улицах – ни души. Только иногда по улице проскочит верховой или протарахтят дрожки, и опять надолго установится сухая, горячая тишина.
Я сижу на дороге в мягкой шелковистой пыли, стряпаю пирожки. Это делается просто: надо принести из дома ковш воды и эту воду понемножку плескать в пыль. Образуются вязкие комочки грязи. Из них-то и лепятся пирожки. Но пирожки – пирожками… Делаются они для того, чтобы разложить их потом рядком поперек дороги и ждать, когда поедет какой-нибудь мужик. Ждать приходится подолгу. Наконец в конце улицы показался мужик на телеге. Я залезаю в крапиву у прясла (крапива у нас растет высокая, в рост человеческий, и жалит только ее верхняя часть. Внизу же можно спокойно спрятаться) и оттуда смотрю, как приближается телега. Она все ближе, ближе… У меня замирает сердце: сейчас проедет по моим пирожкам. Мужик увидел пирожки, оглянулся по сторонам, лениво подстегнул коня… Я с каким-то непостижимым трепетным волнением вижу, как сперва лошадиные ноги расшвыривают мои пирожки, потом по ним проехали четыре колеса. Выскакиваю из крапивы и стою над пирожками. Почти все погибли. Те, что с краю, уцелели, а средние все погибли. Снова принимаюсь стряпать и выстраивать рядок поперек дороги. Есть в этой работе какой-то смысл. Наверно. Вот что: мужик до последнего момента не видит мои пирожки на дороге, а я знаю, что они лежат там, и я знаю также, что, увидев их, мужик оглянется. Я это знаю и заранее жду; когда он оглянется. И меня охватывает сладостный восторг и волнение, когда он оглядывается. И еще – очень приятно сидеть в пыли. У меня, конечно, на ногах «цыпки», но это уже больше беспокоит маму. Вечером она будет отмывать меня у колодца.
Вот за таким-то занятием, когда я мирно сидел и стряпал пирожки, меня захватил соседский бычок. Он был бодливый, как черт, я его ужасно боялся. Мы, ребятишки, все его боялись. Мы его дразнили издалека, а когда он, нагнув голову, кидался на нас, мы разбегались, кто куда. А тут я, занятый за пирожками, проглядел его. Увидел, когда он был в шагах пяти. Он стоял и смотрел на меня. Я вскочил было, чтобы бежать, и тут же сел – ноги отказали. А телок взбрыкнул задними ногами, зловеще мэкнул и помчался ко мне. Я, кажется, заранее упал на спину. Он принялся катать меня по дороге. Я молчал. Потом ко мне вернулся голос, и я заорал. Заорал так, что телок отскочил, расставил передние ноги и долго и глупо смотрел на меня. Кто-то выскочил из избы и выручил меня.
Вечером в нашей избе появилась грязная сухая цыганка с большими вороватыми глазами. Я лежал на печке, а цыганка шуршала в кути, у печки, юбками и торопливо шептала. Мама с надеждой и подозрительно смотрела на нее. Цыганка растопила в ложке воск, вылила тот воск в стакан с водой – там образовался какой-то желтый бесформенный комочек. Цыганка торопливо закивала маленькой галочьей головой. Я не помню, что она говорила, что-то говорила. Помню как мама сказала: «Телок напугал-то, а не собака». Потом они говорили про нашего петуха. Цыганка почему-то кричала, мама тоже сердилась и говорила: «Ишь ты какая! Ишь ты!». Потом я выпил теплую воду из стакана, над которым колдовала цыганка и уснул. Потом помню себя за таким занятием.
Жилось нам тогда, видно, туго. Недоедали. Мама уходила на работу, а нас с сестрой оставляла у деда с бабкой. Там мы и ели. И вот… Дед строгает в завозне, бабка полет в огороде грядки.
Я сижу у верстака и сцепляю золотисто-солнечные кольца стружек. И вдруг вспоминаю, что у бабки в шкафу лежат шанежки. Выхожу из завозки и направляюсь к дому. На дверь накинут замок – просто так, без ключа (сестра в огороде с бабкой). Если замок вынуть из пробоя и открыть дверь, бабка услышит и спросит: «Ты чего там, Васька?». А мама наказывала – я это хорошо помню – не надоедать деду и бабке, особенно деду, не просить есть: сколько дадут, столько и ладно.
Окно в избу открыто. Оттуда пахнет свежеиспеченным хлебом и побеленным шестком. В углу стоит, тускло поблескивая стеклами, пузатый шкаф – там шанежки.
Я влезаю в окно и осторожно, на цыпочках, иду по крашеному полу… Открываю шкаф, беру самую маленькую шаньгу и тем же путем убираюсь из избы. Воровал я до того что-нибудь или нет, не помню. Но я помню, как я крался по избе на цыпочках. Откуда-то я знал, что так надо.
Вечером бабка, посмеиваясь, рассказывала маме, как я лазил в окно (она из огорода все видела). Мама не смеялась. У нее было недовольное лицо.
– Вы сами-то уж сроду не догадаетесь… Скупые вы шибко, мам, уж до чего скупые.
Бабка обиделась.
– Кормим ведь… Чего же скупые? Да он и есть-то не хотел. Так – пакостник.
Еще помню такое.
Стоит у нас посреди избы страшный маленький человек с рыжей бородой – Яша Горячий, грозит пальцем и говорит: «Ты меня не пужай, не пужай – отпужались». А мама стоит перед ним и говорит негромко: «Ну, смотри, Яша, смотри… Я тебя не пужаю… Недоактивничать бы тебе».
Потом Яша полез на полати и стал оттуда сбрасывать березовые чурбаки (березник около села запрещалось рубить, но его рубили и прятали, где могли. Яша Горячий, сельский активист, искал его по домам).