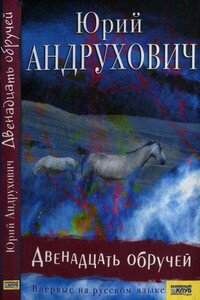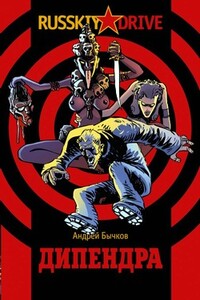Он вытер руки о вафельное полотенце. Внизу оно было влажновато, слегка захватано, и инстинктивно он вытер о верх, белый, вафельный. Играла музыка. Он посмотрел в зеркало, отмечая, как всегда, глядя в зеркало, что это, конечно же, не его лицо, и не удивляясь уже по привычке, что это лицо не его. Он зашел сюда с лыжами, с новыми лыжами, они стояли сейчас за его спиной, прислоненные к черному блестящему жизнерадостному кафелю стены. «Лыжи, – подумал он с нежностью. – Я купил себе новые лыжи». Трещина в зеркале разделяла его (не его) лицо и лыжи, как правое и левое. Его лицо было – правое, а лыжи – левое. Растянув толстые губы, он осмотрел неровный ряд верхних зубов, и такой же нижних, кляцкнул, вновь накладывая поверх толстые, навазелиненные от мороза вазелином губы. «У меня должны бы быть тонкие узкие губы», – подумал.
Женщина возникла внезапно, словно из трещины, подобно оптической иллюзии. «Откуда здесь женщина?!» Но, передвинув лицо, он увидел правее его лыж дверь, из которой она вышла. Теперь трещина в зеркале поглотила одного из мужчин, стоящего лицом к стене, распахнувшего шубу и уже начинающего. Голова женщины была укутана в серый шерстяной платок, а на кистях рук висели молочные резиновые перчатки с желтыми творожными пальцами. Но по движению, с каким она поставила, изогнувшись, ведро, а потом рядом с его лыжами и швабру, он понял, что она очень молода. «Как девушка», – подумал он и почему-то вспомнил глянцевую улыбку мальчика в желтом окошечке на входе. «Сорок?» – переспросил он тогда, не веря табло. «Да-да, сорок, – подтвердил, нагло щурясь, мальчик. – У нас очень-очень хорошо, очень-очень».
Музыка была классическая, добросовестная, чистая, слегка грустная, но чистая, классическая. Он попытался вспомнить имя композитора и не смог, это было и мучительно, и сладостно одновременно, словно с усилием, которому он подвергал свою память, музыка проникала еще и еще, на глубину, к тому затрудненному наслаждению, которое, может быть, в силу своей затрудненности только и является истинным. Но не смог.
Пол был чист, только чьи-то одинокие следы, исчезал беспомощный белый снег, стаивал в прозрачные овалы, девушка смахивала их широкими ритмичными замедленными движениями, слегка приподнимая левую ногу на носок и выгибая подъем, когда швабра выскальзывала вперед. Музыка.
– Где вы купили лыжи? – спросил его человек в шубе, подходя и непринужденно, даже как-то роскошно вздергиваясь.
– Там, на углу, в спортивном, – покорно ответил он.
– Здесь действительно очень опрятно, светло, можно расслабиться, – сказал тогда человек в шубе. – Разрешите, я вымою тоже.
– Пожалуйста, – ответил он и подвинулся так, что трещина в зеркале поглотила теперь отражение лыж.
– Я здесь недалеко работаю, – сказал человек в шубе, открывая сияющий никелированный кран и разглядывая с нескрываемым удовлетворением свое лицо.
Глядя на лицо человека в шубе в зеркале на стене, он сразу понял, что вот, вот каким должно было бы быть и его лицо. Эти тонкие самоуверенные губы, белый ровный зубной ряд и наглые с прищуром глаза.
Ловя в зеркале плавные движения девушки, человек в шубе сказал:
– Я буду сюда заходить, – и усмехнулся. – А вы?
– Я… – сконфузился он.
– Да, вы, вы с лыжами будете сюда заходить? – рассмеялся тонкогубый, вытирая руки о полотенце еще выше, гораздо выше, где было совсем белое, жесткое, накрахмаленное, не тронутое еще никем.
Размахав растаявшие следы, девушка натирала теперь другой тряпкой (белой) кафель, который от натирания торжественно блестел. Тонкогубый, вытерев тщательно руки, сел на кожаный выпуклый целомудренный диван, который стоял в углу помещения, и взял с низкого столика газету. Губы его стали остры, он сделал вид, что читает, но человек с лыжами понял, что тот ждет, когда он уйдет. Ввалились двое красномордых мужчин в блестках, топая, отряхая роскошный снег и разговаривая.
– Сволочь этот Бордов, хоть и большая шишка, – сказал один.
– Потому и шишка, что сволочь, – ответил другой.
Первый издал звук ртом. Они подошли к стене и стали к ней лицом. Перестали разговаривать, тем самым как бы подчеркивая уважение друг к другу. Немного покачивались. Девушка медленно намыливала кафель. Заметив ее, они переглянулись, но ничего не сказали и вышли, так же шумно топая, как и вошли. Они не воспользовались ни полотенцем, ни краном, ни щеткой, ни диваном, ни газетой, ни бритвенным прибором, ни утюгом, ни чайником, только специальными керамическими приспособлениями на стене. Они ушли, оставив снег следов. Девушка обернулась. Как будто она ждала, когда растает этот снег, который был слишком бел. Тогда мужчины, оставшиеся в помещении, оба, посмотрели на ее лицо. Она оказалась еще моложе, чем можно было подумать, глядя на нее со спины. Из-под серого шерстяного платка вдруг открылось ее алое лицо. Плотно прижатые лепестки щек к маленькому, еще детскому рту, невинный, вздернутый чуть-чуть любопытно носик, пугливые, как вечерняя вода, глаза.
Тонкогубый отбросил газету и положил руки с пальцами в перстнях на колени, поверх шубы, которая прикрывала его колени в брюках. А человек, принесший лыжи, подошел к своим лыжам, чтобы взять их, потому что и ему надо было что-то сделать, освободиться от видения, так неожиданно красиво оказалось лицо девушки. Заметив, что они заметили ее, она заалела еще больше и, чтобы скрыть свой стыд, стала торопливо и неумело затирать шваброй не успевший еще растаять снег следов.