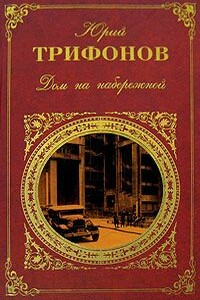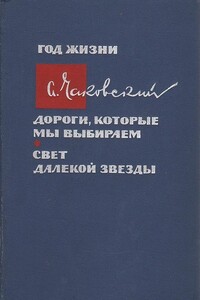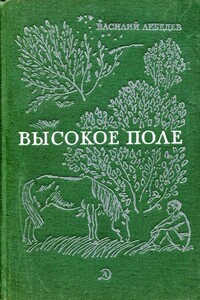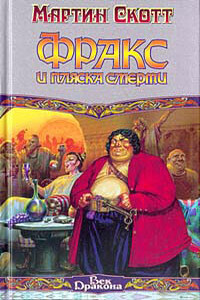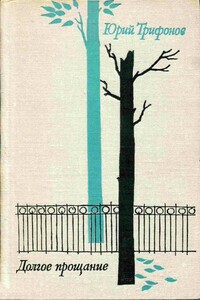Юрий Валентинович Трифонов
Игры в сумерках
Мы знали их всех по именам, нас же не знал никто. Мы были просто: «Эй, мальчик! Принеси мячик!» Еще мы были: «Спасибо, мальчик» или же «Вон там, за кустом! Левее, левее!» Они играли с четырех часов до сумерек, а мы сидели на изрезанной ножами скамейке – я и мой друг Савва – и вертели головами направо-налево, направо-налево, направо-налево. У нас болели шеи. Это длилось часами. Ни голод, ни жажда, никакие земные желания не могли отвлечь нас от этого замечательного занятия. Направо-налево, направо-налево мелькал маленький, направо-налево, белый, направо-налево, теннисный мячик вместе с тугими ударами, которые равномерно направо-налево, направо-налево, направо-налево вколачивались в наши мозги и укачивали, завораживали, усыпляли, мы становились как пьяные, не могли ни уйти, ни встать, хотя дома нас ждали головомойки, и продолжали, одурманенные, сидеть, вертя головами направо-налево, направо-налево.
С другой стороны корта – если бы кто-нибудь хоть раз взглянул на нас! – мы напоминали двух китайских болванчиков – так неутомимо и плавно двигались наши головы, стриженные под полубокс. И верно, мы были болванчиками. Даже не болванчиками, и вовсе не китайскими, а самыми настоящими, подмосковными, дачными, одиннадцатилетними болванами, которые тратили июльские вечера на верчение головами.
Рядом была река, песчаный скат, отмель, плоскодонки – запахи воды и крики купающихся доносились до нас, не проникая в глубь сознания. Это были запахи и шум отдаленного мира, не нужного нам.
В сумерки наступал наш час. Первым сдавался долговязый очкарик, которого мы с Саввой прозвали Дрожащий. Дрожащий очень нервничал на корте, при каждом неудачном ударе вскрикивал: «Ах, черт!», хватался за голову, рассматривал с изумлением обод своей ракетки и качал головой или же бормотал что-нибудь вроде: «Да в чем же дело? Что со мной?» Но ничего особенного с Дрожащим не происходило. Он всегда играл одинаково. Почти одновременно с Дрожащим прекращал игру Татарников, лучший игрок, аристократ, владелец велосипеда «Эренпрайз» и образец во всем для нас с Саввой. Молчаливый, ироничный, ходивший в элегантных полосатых рубашечках, с гладко зализанными волосами – такая прическа почему-то называлась «политзачес», – Татарников настолько пренебрежительно относился к партнерам, что мог прекратить игру, когда вздумается, даже в середине гейма при счете «меньше». Неожиданно поднимал ракетку и со словами: «Все, господа! Не дворянское это дело – портить глаза» – уходил с корта. И с ним никто не решался спорить. Все глотали это хамство молча и как бы даже мысленно благодарили Татарникова за то, что он вообще приходит играть. Ведь Татарников однажды играл с самим Анри Коше, и тот сказал про него: «Хороший парень».
Татарников садился на свой «Эренпрайз» и укатывал, и сразу начинала собираться Анчик. То есть не то чтобы она тут же бросала ракетку, но видно было, как все ей становилось неинтересным, она переставала стараться, мазала и пререкалась. Анчик была смуглая, как индианка. Иногда она очень веселилась, хохотала и всех задирала, а иногда делалась мрачной и раздражительной. Бедная Анчик! Я жалел ее. И Савва тоже. Хотя Савва сказал однажды, что ему не нравятся кокетки, я видел, что он лукавит. Я заметил, как он напружинивался и покрывался пятнами, когда Анчик нежным голоском, но совершенно равнодушно обращалась к нему: «Мальчик, если тебе не трудно...» С угрюмой поспешностью он кидался за мячом, гораздо быстрей, чем обычно. Я же, наоборот, сидел молча и неприступно. Как только прекращала игру Анчик, сейчас же уходили с корта Профессор и Гравинский (он был, может быть, Краминский, Кравинский или даже Брабинский, мы точно не знали, потому что имена и фамилии улавливали на слух). Профессор и Гравинский обычно провожали Анчик до ее дачи на третьей линии.
Дольше других оставался играть маленький темнолицый человечек в квадратных очках, владелец японской ракетки. Мы с Саввой подозревали, что он шпион. Но еще позже «шпиона» торчала на корте одна отвратительная парочка, муж и жена, которым теннис был нужен только затем, чтобы сгонять жиры.
Играли они очень плохо, но упорно и долго, до темноты. Я заметил, что чем хуже игроки, тем они жаднее к игре. Мы с Саввой их ненавидели. Они отнимали у нас последние драгоценные секунды, потому что их, как и нас, настоящие игроки не пускали на корт, но поздним вечером они не пускали нас, нагло пользуясь своей привилегией взрослых. «Ребята, ребята! Вы здесь крутились целый день...» Но наконец убирались и они. Я вынимал из чехла свою динамовскую ракетку в двенадцать унций, а Савва – свою немецкую, чудную, со стальными струнами, и мы выбегали на пустынный корт. В эту минуту не было людей счастливее нас.
Корт был цементный, он белел в сумерках, как просторный и чистый луг. Мы очень торопились. В темноте часто промахивались. Нам хотелось ударить посильней. То и дело сильные мячи, по которым мы не попадали, ударялись с барабанным гулом в деревянную стенку. Ни задней линии, ни квадратов уже не было видно. Летящий мяч выносился из темноты так неожиданно, что я подставлял ракетку инстинктивно, для самозащиты. Мы наслаждались минут двадцать, пока не возвращался с купания хозяин сетки Николай Григорьевич. Он снимал сетку и уходил. Мы еще некоторое время продолжали кидаться без сетки; собственно, в темноте было уже все равно – что с сеткой, что без сетки.