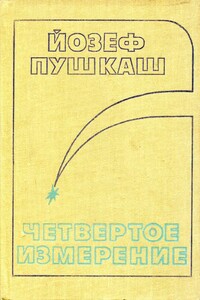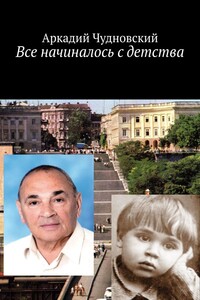ПОД СВЕТЛЫЕ СВОДЫ
Ларичева вбежала под светлые своды поликлиники в сильном запале. Она торопилась и скользила на свежевымытом полу. Раздев ребенка, она рухнула вместе с ним и с пальто прямо на барьер раздевалки. Ребенок звонко закричал: “Сам тете отдам!” Тетя стала распихивать пальто, а Ларичева потянулась за сумками.
— Эй, тихонько, ребенка с высоты уроните! — испугалась гардеробщица.
— Ах, да, извините.
У нужного кабинета спала неподвижная очередища, а у других кабинетов не было ни одного человека. Девочки и мальчики в трикотажных костюмчиках припали к родителям и забубенно смотрели вдаль. У Ларичевой ребенок тут же свалил с окна цветочный горшок.
— Следите за ребенком, — строго велела крахмальная медсестра.
Ларичева поспешно сунула горшок на место неразбитой стороной к людям и взяла ребенка в мертвые клещи. И вполголоса запела ему на ухо: “Посадил дедуля репку, пребольшая выросла…”
Участковая излучала тепло, как УВЧ.
— Фенкарол, бисептол?
— Поглотали.
— Электрофорез, ингаляцию?
— Отходили.
— Ой, не торопитесь. В легких чисто, но посидеть бы вам еще дома. Элеутерококк покапать в ложечку.
— Не могу, на работу надо.
— Ну, как хотите. Печать в боксе.
Ларичева побежала по этажам, спасибая на ходу. Бокс был закрыт ровно полчаса, после чего сразу наступил обеденный перерыв.
— Не просите, не приму.
— Но почему? Полчаса вас ждала!
— Я не гуляла. Двадцатидневного на соскобы принесли, сами знаете, что такое. После обеда придете.
— После обеда не могу!
— Ну и мамочка. Государство ей дает дни на лечение, а она скандалит. Нарожают, потом плачутся.
Ларичева привыкла, что сначала из девочек воспитывают матерей, а потом этим же попрекают. Она уныло потащилась прочь, под светлые своды гастронома. Люди в коконах стылого пара казались безразличными и на одно лицо. Ларичева поняла, что все отличаются друг от друга не носами, не подбородками, а именно выражением лиц. Нет выражения — нет человека. Зимой всегда так.
Добыв кефира и дорогой колбасы, она обнаружила, что сынок пристроился к бабулькам и чего-то поел.
— Ты зачем побирался, сынок?
— А чего ж вы не кормите? Дите, оно жить хочет.
Ларичева некультурно отхватила зубами кусок колбасы и дала ребенку, чтобы разом заткнуть рот и ему, и бабульке. И еще — чтоб без нервов позвонить.
— Алло, статотдел? Забугину. Привет, выписали нас. Но только я приду в понедельник, а папка с оборудованием там, в нижнем ящике, вся запущена. Ты не занесешь? Я посчитала бы на выходных… Вот какая ты клевая. Жду вечером!
Оглянулась — сыночек пыхтел над колбасным огрызком.
— Алло, это союз? Мне бы Радиолова. Посмотрели рукопись? Хотела бы сейчас, ага…
Волоча сумки и ребенка, Ларичева въехала под светлые своды союза. Возвышенная секретесса ласково кивнула ей:
— Радиолов на заседании.
— Да мне только рукопись взять…
— Что с вами делать.
Взяла телефонную трубку, скользнула взором по сумкам, по сопливому сыночку. Ларичева томительно краснела. Вышел известный писатель Радиолов, корневик и душелюб. Выпустил много книг и казался необъяснимо добрый. У него был строгий белый пиджак и потемневшее в лишениях лицо.
— Посмотрел ваши наброски первого, если можно так сказать, приближения… Да вы присядьте. — Он глубоко вздохнул и опустил глаза. — Ну, зачем вы так, голубушка? Черен ваш мир, злобен. Не любите вы людей. А ведь они несчастны — как я, как вы, как все… Держите сына, это ронять нельзя, сувенирный столик, его выточили умельцы из глубинки… Их жалеть надо. А вы хлещете, ерничаете. Зачем? От этого сжимается сердце! Нехристианский подход! Но я согласен — есть характер. Как человеческий, так и литературный. Если хорошенько все это почистить, перепечатать, то можно рассчитывать на две профессиональные рецензии. Держите рукопись, держите сына, а то на него упадет эта сова, символ мудрости, если можно так сказать… О стилистике стоит отдельно поговорить, когда придете одна. Над этим еще работать и работать. Не можете без жаргонизмов. И концовки кое-где сочиненные. Да я верю… Нет, я не о первооснове, а о правде художественной. У нее свои законы… Ну, все, пора, у меня там люди, неудобно… Работайте, приходите, буду ждать.
Ларичева шла и соображала, почему это из жизненной правды не вытекает художественная. А на улице было холодно, чвиркал нос у прохожего, чвиркал под каблуком снег и чвиркали окоченевшие воробьи. “Холодно, бело и лыжно”, — задыхаясь, бормотала Ларичева слова из своей заветной тетрадки, — “неподдельная зима… можно ли ругать облыжно — даденное задарма?” У всех же есть в молодости песенники, вот и у Ларичевой был. Туда она записывала стихи, которые пела, и, чтобы долго не искать, обычно рядом с гитарой клала и тетрадь эту. На вечеринках тетрадь не требовалась, потому что народ под хмельком требовал петь “Милая моя”. Но когда это была не вечеринка, а просто свои, например, Забугина, так тетрадь сразу находилась. Ее как откроешь — сразу в начале было крупно выведено: “Огромный рот, глаза на выкате, плутней и оборотней рать. Вы мне, пожалуйста, не тыкайте, не трогайте мою тетрадь!.. Один наказ: “Твори, свободная, по слуху ноты подбирай. Ведь музыка не папка нотная, а горе, и гроза, и грай!”