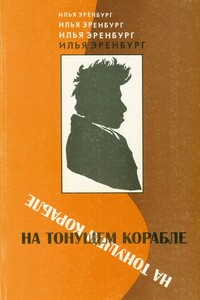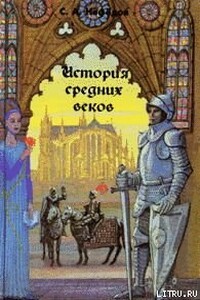После: рабски подражал природе: а потому, что он не овладел предметом своей работы, что, напротив, этот предмет победил его своей эстетической неразрешимостью (л. 13).
В автографе часть III начинается: «Позвольте, — скажет мне читатель, я уже и ранее заприметил у вас страсть к аналогиям и метафорам. Но здесь вы увлеклись непростительно» (л. 25).
После: …создания поистине просветленные… в автографе:
…маяки нашей словесности, если вы уж так любите описат<ельные> выраж<ения>… (л. 26).
После: оживляющим душу сюжетом: Да и Громобой-то уже менее всего, во всяком случае, напоминает Городничего, даже в моменты самого сильного лирического воодушевления. Итак, сближение ваше натянуто, господин критик и иллюстратор.
Да, читатель, если рассуждать, как вы сейчас рассуждаете, то, пожалуй, что оно натянуто.
Извольте, так и быть — попробую изъясниться удовлетворительно, и раз мои метафоры кажутся вам затемняющими дело, сколь ни трудно мне говорить языком неукрашенным, — я постараюсь разъяснить вам свою мысль подбором самых простых вокабул (лл. 27–28).
После: своих страшных глаз где-нибудь:…в Италии, напр<имер>, в том знаменитом коридоре, который соединяет две флорентийские картинные галереи и сплошь увешан старыми портретами. Вообще, едва ли какая-нибудь школа живописи дала миру столько страшных портретов с преследующими глазами, как Тосканская. Но я почти ничего не говорил еще о самой повести (л. 35).
Вместо: Так и кажется, что существует на свете не Патетическая симфония Чайковского: Во Власти тьмы не только нет музыки. Но, читая эту драму, как-то даже невольно стыдишься того, что на свете существует музыка и самое существование Патетической симфонии Чайковского неразрывно соединяешь с представлением о напудренных дамах в перчатках по локоть, которые слушают ее из-за мраморных колонн Екатерининской залы (ед. хр. 125, л. 4).
После: сама действительность: а не те ее восприятия, которые мы или пьем в созданном ею же бреду, или поглощаем в микстуре разжиженными бесцветной водянистостью ежедневного и чужого (ед. хр. 125, л. 6).
После: нельзя бы было представить себе ацтеков или чертей иначе: Вот мать, которая любит своего сына, вероятно, не меньше, чем любила Корнелия своих Гракхов, любовь ее даже, вероятно, сильнее, так как между ней и ее детищем не стоит императив Рима. Но посмотрите без принципа, который можно назвать cum grano salis[1] религиозным, без толстовского принципа, во что обращается это чувство — каким становится оно не ужасом, какой мерзостью. Вы скажете — тут сгущены краски. Но разве же вы не чувствуете, что все это одна правда; только действительность, кажется, страшнее, потому что она продумана, она пережита за нас гениальным умом. В жизни мы глотаем вещи и гораздо более пикантные иногда, но там они разжижены блеклой водянистостью ежедневного — мысль дает их ядовитый сок, но в поэтическом вине, с играющей пеной (На этих словах запись обрывается; ед. хран. 125, лл. 17–19). <…>
Матрена хочет сыну лучшего, что может пожелать нищая и темная мать — денег… Для этого приходится доставать <1 нрзб.> порошков. Она жалеет своего детища и, зная, какой он жалостливый, сколько возможно старается его не запутывать. Когда запутаться ему все-таки пришлось, Матрена с чисто материнской нежностью освобождает его от самой тяжелой части работы — зарывает убитого ребенка, и с женской чуткостью понимая, что может сделать вино в смысле прививки нравственного безразличия, советует своему Микишке выпить стаканчик-другой. Вы скажете, что когда Матрена устраивает судьбу сына, она заботится и о себе. Может быть, но все же я не знаю, чем она эгоистичнее всех других матерей. Неужто же в самом деле такая радость отравлять больных <2 нрзб.>, зарывать на погребице детей, лгать и выворачиваться, провидя за все эти удовольствия каторжные работы, что Матрена не может этим купить нашей уверенности в бескорыстии своего чувства к сыну. Но Матрена не знает бога — за это она губит других и прежде всего тех, кого любит, и сама, вероятно, задаром пропадает.
Ее муж, тот — знает бога, но чего же он этим достиг? Т. е. не для себя, п<отому> ч<то> нет такого бога, который бы говорил человеку: «люби себя», всяк говорит на своем языке — «люби меня», — так не для себя, а для Никиты. Зачем же этот бог? Кто губит Никиту? Разве мать? Будто бы мать? Ой, не отец ли? Нет, он знает, что Никита лжет, что он так бахорит, как глупый щеголь и бахвал. Зачем же он дает злому твориться, Марине оставаться с худой славой, Микишке пропадать по-напрасному. Чему он выучил своего Микишку? Он непротивленец. Он толстовской секты. Легче живется что ли таким? В чем их сила? Да, поди ж ты, да разве это не сила — что называет любезной работишкой? А ночью-то, по морозу уходит старик, из теплой избы уходит, чтобы скверности не видеть — разве это не зерно, падающее в душу, положим, еще незрячую, но уже чующую солнце? Да, все это так, но неужто же точно соль земли в этих чистильщиках выгребных ям? Кому-нибудь надо чистить ямы — это они, кому-нибудь надо получать удары от людей, которые не знают рукам лучшего употребления, — это они, кому-нибудь надо повторять людям, что бог есть, что бога забыли — это они… Но вносят ли они сами-то в <1 нрзб.> какое-нибудь творческое начало, какую-нибудь новизну в окружающую жизнь — нет, Акиму подозрительно всякое улучшение даже в наиболее знакомой ему области. Бог Акима единообразен, но вечен: в такой-то день он восходит во столько-то часов, заходит во столько-то. Бог Акима — это демон Сократа, но возведенный на не подобающее ему место. Он останавливает Акима напоминанием его устами о правде и совести — но не надо забывать, что не демон Сократа согревает нам душу через 23 столетия, а его жажда искать истину путем сомнения и самопроверки. Бог Акима не рассуждает, он живет даже не мифами, а пошлостью поговорок. Аким закреплен в своем непротивлении, даже не силой убеждения, что уму не надо давать развиваться борьбой и искусством, как пожар лучше ограничивать, чем тушить.