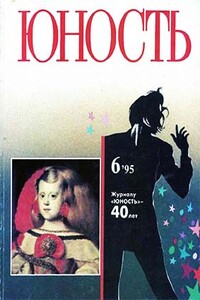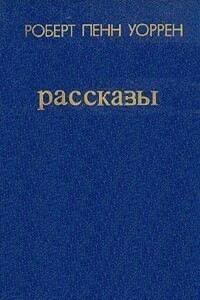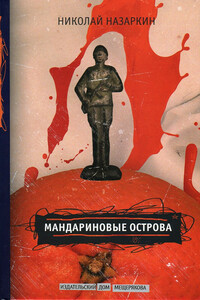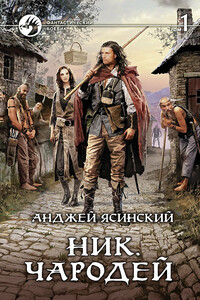Олег Блоцкий
Евграфьев
Подразделение во всех отношениях было странным: стояло в Кабуле, на территории штаба армии, в полку связи, но, вроде, и на отшибе от него. Служили там обычные, как и во всей Сороковой армии, военные, но была у них какая-то тайная, вторая жизнь, которую они тщательно оберегали и никого из посторонних в нее не допускали. Ночью в машины, относящиеся к подразделению, что-то опасливо и торопливо грузили. Днем они уходили в город.
После завтрака в комнату, где обитали лейтенант Евграфьев и прапорщик Женя Ромкин, бочком втискивался Леха.
Водитель останавливался на пороге, пытался приставить пятку к пятке (как обычно, это у него не получалось), одергивал куртку и, не поднимая глаз, говорил:
- На выезд мне, тощлейнант!
Евграфьев откладывал книгу, держа палец между страницами, и удивлялся:
- Что ты мне об этом говоришь, Леха?
- Ну... как... вы... эта, - водитель шмыгал носом, - эта... вы мой командир.
- Но-ми-наль-но, Леха, номинально. Неужели не понимаешь? Я вижу твой светлый лик двадцать минут в сутки. Ты выполняешь конфиденциальные работы, мне неизвестные.
- Че? - нервничал солдат и еще сильнее тянул куртку вниз.
- Шуршишь, говорю, втихушку. Заправляют тобой другие люди. Зачем ты сюда ходишь?
Водитель еще напряженнее терзал края куртки.
- Переведите меня, тощлейнант. Ребята с батальона... того... смеются. Че, грят, рассказывать будешь? Ведь стыдно. Вроде и не в Афгане, а... того... как в Союзе.
- Кто бы меня перевел, - вздыхал Евграфьев. - Я сам, брат, колочусь в закрытые двери. Думаешь, мне малина? Ступай, Леха, не трави душу!
Солдат собирался уходить, но в разговор встревал Ромкин. Первым делом он выговаривал Машталиру за неопрятный внешний вид.
Ромкин был вчерашним солдатом и стремился всячески утвердить свой авторитет, который упорно никто не хотел признавать. Солдаты не любили прапорщика и называли за глаза "шакалом".
Другие прапорщики подразделения Ромкина в свой круг не вводили. Командир же вообще не замечал "молодого прапорюгу", поручая "все разборки с этим" старшему прапорщику Брускову.
После нагоняя Машталиру, во время которого у Ромкина лицо становилось изрядно тупым и деревянным, прапорщик переключался на поездку солдата.
Заговорщицки подмигивая, значительно убирая суровость в голосе, тем самым, по его пониманию, искусно пряча кнут за спину и вытягивая из кармана пряник, Женя начинал опутывать вопросами бордового водителя.
Леха, теребя края куртки пальцами, отвечал коротко и уклончиво. Ромкин наседал. У Машталира окончательно пропадал голос, он становился на редкость косноязычным и с тоской смотрел на Евграфьева, лицо которого вновь закрывала книга.
Прапорщик сдавался, фальцетом матерился и посылал Леху коротко, по-военному ясно и просто.
Машталир бочком выползал из комнаты, напоследок роняя: "Вас... того... тощлейнант Митреев... зовут".
- Вызывает, боец, вызывает! - взрывался Ромкин. - И не Митреев, а майор Митреев. Остолоп! Понял, Мачта!?
Евграфьев предупреждал Машталира, что пойдут они вместе, и просил Леху подождать на улице. А Ромкин лежал на кровати и долго не мог успокоиться. Он проклинал Митреева, всех "прапоров - жучар и сволочей", а также прочих гадов, "которые людям жить по-человечески не дают".
Женя болезненно переносил всеобщее недоверие к своей персоне и то, что его не только не замечают, но с каждым днем задвигают все дальше в угол как не очень нужную в хозяйстве вещь.
Ромкин ежедневно занимался лишь тем, что водил солдат в столовую, строил их перед отбоем, да пересчитывал трусы с майками в каптерке. В город Женю ни на одной из таинственных машин никто не выпускал. От этого Ромкина пронимала черная тоска.
- Всю Сороковую продали, гады, а нам - шиш, - переживал Женя, закинув ноги на дужку кровати.
- Да будет тебе, - говорил Евграфьев. - Не хлебом единым! - и выходил из комнаты.
Ромкин чесал грудь и долго размышлял, что это означает. Если без хлеба, то вроде, как и не пожрал. А китайские сосиски из банок вообще кажутся пресными и несъедобными, хоть выплевывай. Как тут без хлеба?
Шагая к машинам, Машталир с Евграфьевым разговаривал "за жисть". Леха, захлебываясь от новостей, радуясь, что лейтенант не перебивает, торопился передать все, что произошло у него дома.
Сестра замуж выходит. Хлопец толковый. С их улицы. Теперь, вот, женятся. Мамка особенно довольная, потому что Ленька мужик работящий и в стакан не смотрит (здесь Машталир явно цитировал мамкино письмо, которое он перечитывал по нескольку раз на день). Ленька в колхозе трактористом. Так что дрова, сено там привезти теперь хорошо будет. Другим он тоже возит. Но бутылками не берет, только деньгами. И к Маринке ласковый. Подарки дарит. Не то что другие хлопцы - один раз пройдут по улице c танцев и сразу лапать. Ленька дом строить будет. Заживут! - радостно говорил Машталир, и последнее слово у него выходило, как "заживуть", совсем по-крестьянски, очень прочно и в то же время мягко.
Евграфьев кивал головой и ему виделся свежесрубленный новенький дом, где у раскрытого окна счастливо пьют чай из самовара Маринка с Ленькой.