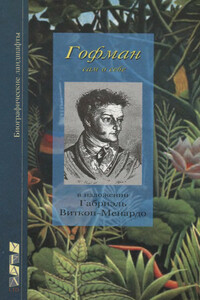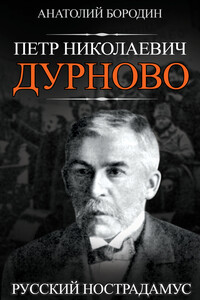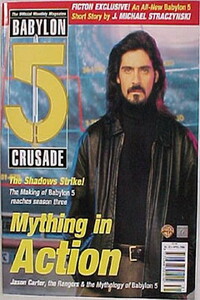Немногие из европейских авторов могли бы сравниться в известности с Э. Т. А. Гофманом, но еще меньше тех, кто был бы так же не понят, как он. Значительная доля его славы основывается на недоразумении; его имя окружено столь же нелепыми и банальными домыслами, как имена Вийона, Шопена или Модильяни. Художники нередко становятся жертвами нечистоплотных дельцов, которые перекраивают их на свой лад и сбывают, как товар, обывателям, падким на дешевизну, — тем, кто любит, напялив на себя личину фальшивой добродетели, восторгаться действительными или мнимыми пороками великих людей, втайне лелея мечту предаться тем же порокам. Ибо ничто так не привлекает посредственность, как сенсация.
Случается и так, что сам художник из детского озорства, из чистого сарказма или просто из болезненного любопытства (ведь так интересно проверить, насколько далеко может зайти человеческая глупость!) начинает эпатировать обывателя. Мистификации, затеянные самим Гофманом, в конечном счете привели к оперетке Оффенбаха и известной «техниколоровской» киноподелке. Дело приняло такие масштабы, о которых писатель не мог и помыслить. Игра в абсурд привела к нежелательным последствиям, бумерангом ударила по его творчеству и окружила его гений «наслоениями», выставляющими его в абсолютно искаженном свете. Но еще хуже то, что люди, прекрасно отдающие себе отчет в литературной ценности его творчества, зачастую с большим трудом преодолевают бессознательное предубеждение, ибо — пусть невольно, пусть на короткое время, — но поддаются влиянию того наносного, что, хотя и легко распознается как легкомысленный каприз художника, успевает отравить удовольствие даже от безупречного в большинстве отношений творения. Возможно, это также одна из причин того, что многие немецкие знатоки литературы видят в Э. Т. А. Гофмане лишь второсортного автора, тогда как в действительности он был ослепительным новатором.
Для адекватного понимания Гофмана необходимо прочесть его целиком, относясь к неудачам с таким же интересом, как и к перлам, и не слишком доверяя сборникам избранных произведений, в большинстве своем ориентированным на то, чтобы потрафить вкусу публики и упрочить или освежить легенду.
В моей жизни есть одна характеристическая черта, а именно: со мной всегда происходит то, чего я меньше всего ожидаю, будь то хорошее или дурное, и я постоянно вынужден поступать вопреки моим собственным коренным убеждениям.
Человек, которому суждено было стать певцом необычного, родился в Кенигсберге, земля Бернштайн. Его семья вела свое происхождение от старинного польского шляхетского рода Багиньских и, прежде чем стать немецкой ветвью Гофманов, приняла венгерское подданство. Некоторые биографы даже утверждают, что в жилах Гофмана текла толика цыганской крови, — гипотеза сколь соблазнительная, столь и произвольная, не подкрепленная ни одним из имеющихся у нас на сегодня документальных свидетельств. В семье преобладали юристы: так, в частности, отец Гофмана состоял адвокатом при кенигсбергском суде. Он женился на своей двоюродной сестре Луизе Альбертине Дерфер, родившей ему троих детей, из которых первый умер во младенчестве. Когда 24 января 1776 года на свет появился последний, третий, ребенок, его назвали Эрнстом Теодором Вильгельмом. Много позднее писатель, будучи восторженным почитателем Моцарта, сменил последнее из этих имен на «Амадей» — в честь своего кумира.
У ребенка была тяжелая наследственность. Его отец был весьма одаренным, оригинальным, импульсивным, своенравным человеком и — горьким пьяницей. Мать страдала регулярными приступами истерии и испытывала фанатичную страсть к порядку и неодолимый страх перед мнением окружающих. Ее непрекращающиеся иеремиады довели терпение адвоката до предела — и он воспользовался предложением работы в суде Инстербурга, чтобы раз и навсегда порвать с непрестанно хнычущей супругой с ее раздражающей опрятностью и вечно красными от слез глазами. Он добился развода, и суд вверил его попечению старшего сына Карла, тогда как матери достался маленький Эрнст. В то время последнему было четыре года, и с тех пор братья не общались друг с другом. В единственном дошедшем до нас письме к брату от 10 июля 1817 года Эрнст упоминает играющего на виоле да гамба отца и покрытый красным лаком рояль. Возможно, это самое раннее воспоминание в его жизни.
После развода Луиза переехала к своей матери. Вероятно, распад брака послужил ей поводом для новых жалоб. Маленькому Эрнсту поневоле приходилось играть перед ней роль публики, и воспоминания об этих днях предположительно легли в основу сцены встречи Кота Мурра с его кошачьей родительницей, в плаксивом, театральном и пронзительном тоне которой озвучены все клише материнской преданности и самопожертвования.
Нетрудно предположить, сколь своеобразным было детство Э. Т. А. Гофмана, проведенное им в просторном сером доме на Постштрассе, сад которого примыкал к пансиону для девиц. Представим себе уютную квартиру в старой Пруссии конца XVIII века, с расписными изразцовыми печами, чембало и арфой в пестрых ситцевых футлярах, тяжелым тиканьем инкрустированных часов, скромными плетеными стульями и выкрашенным серой краской полом. Холодная чистота и довлеющая надо всем скука. Скука, но не спокойствие, ибо дом то и дело оглашают вопли безумной, до смерти пугая бабушку, неизменно вызывая у Луизы слезы и оставляя неизгладимые следы, сочетающие в себе трепет страха с дрожью сладострастия, в душе болезненного мальчика с пугающе большими глазами. Эта безумная, под чьи крики проходит детство писателя, живет в квартире на верхнем этаже вместе со своим сыном Цахариасом Вернером, которого она, впрочем, держит за сына божьего и воспитывает в соответствии с этим убеждением. Цахариас был шестью годами старше Эрнста, и в детские годы они не поддерживали никаких отношений друг с другом.