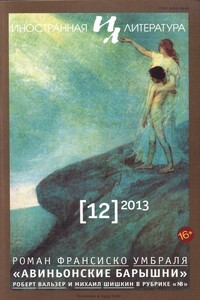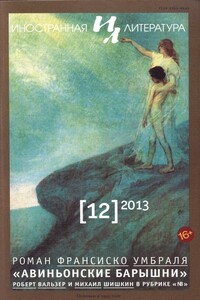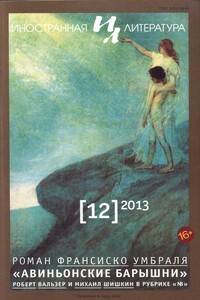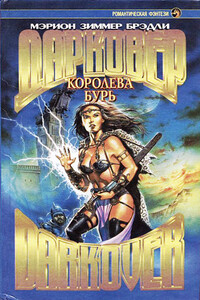В поисках света и справедливости

Эзра Паунд стоял у истоков европейского и американского модернизма, выдвинув идею обновления языка и образа («make it new» — сотворить заново) и вместе с Р. Олдингтоном, X. Д. [Хильдой Дулитл] и Ф. С. Флинтом основав авангардные литературные течения имажизм, а затем вортицизм. Более полувека он писал свои «Песни» (первые были опубликованы в 1917 году) — эпические по размаху и модернистские по форме, в которых сочетал принцип кинематографической фрагментарности, сравнение и противопоставление разных эпох, социальных и экономических систем, как основанных на справедливости (конфуцианский Китай, Америка времен войны за Независимость и первых президентов), так и на деспотизме и стремлении к наживе. Он пытался объять всю мировую культуру, историю и цивилизацию с древнейших времен до современности, перемежая цитаты из Гомера, древнекитайской поэзии и поэзии трубадуров. В «Cantos» множество языков, голосов, отголосков, тем — от сошествия в мир теней и странствия до злободневной политики и экономики. «Красота трудна», — писал Паунд в «Canto LXXIV», предвосхищая упреки в чрезмерной усложненности «Песен».
«Cantos» — это еще и своего рода «эпический перевод», или «эпос перевода», многоязычное интертекстуальное переплетение культур, где Паунд объединяет все виды перевода: от «маски» до аллюзии или цитаты и даже пародии. При этом для позднего Паунда важен «не столько перевод с одного языка на другой или из одной культуры в другую, сколько метаморфический переход из культуры в культуру или взаимодействие между ними. Таков метод „идеограммного“ перевода Паундом жизненно важных культурных фрагментов и ценностей», — как замечает канадский исследователь творчества Паунда этнический китаец Мин Се[1]. Целью Паунда является слияние сжатых фактов и идей из разных культур в универсальную пайдеуму (paideuma) — термин, который Паунд позаимствовал у немецкого антрополога Лео Фробениуса, определив его как «клубок или комплекс глубоко коренящихся идей любой эпохи»[2].
Странствие, причем не в пространстве, а во времени, в истории — не лейтмотив «Cantos», а их поэтический мотив[3]: совокупность основной темы и «поэтически понятого» отношения личности художника к действительности, то есть не имитация окружающего, но создание особой, поэтической, художественной реальности. Личность художника, его отношение к пространству и времени, а если шире — к бытию выступает доминантным признаком поэтического мотива. Воплощение поэтического мотива есть его словесно-синтаксическая реализация в конкретном произведении, «разыгранная при помощи орудийных средств» (Мандельштам).
«Эпос — это стихотворение, вмещающее в себя историю», — писал Паунд в «Make It New»[4] и преуспел в этом. Его «Песни» вмещают историю от античности и Средневековья до Войны за независимость и провозглашения США и до современной истории, очевидцем и участником которой был поэт. Вместе с тем реальная история переплетается с мифом, а миф вплетается в действительность.
«Канто XXXVI», перевод которой я предлагаю читателям, во многом является переложением канцоны старого итальянского поэта Гвидо Кавальканти. Кавальканти олицетворяет для Паунда ясность мысли и творческую мощь, источником которой у него, как позднее у Данте, выступает любовь. Однако канцона — гимн не только любви, но и энергии, свету и знанию, источником которых она служит. Примечательно, что Паунд возвращался к переводу этой канцоны в течение 25 лет и задолго до данного варианта опубликовал в журнале «Dial» за 1928 год другой перевод той же канцоны, в котором следовал строфике Кавальканти и почти везде сохранял концевую, а нередко и внутреннюю рифму.
В журнальной публикации Паунд приводит оригинал канцоны и дает два собственных комментария. В первом он разбирает смысл и философские идеи, где сравнивает интерпретацию света у Кавальканти и у английского мыслителя XIII века Роберта Гроссетеста, который, отталкиваясь от метафизики света у неоплатоников, трактовал свет как изначальную «телесную форму», принцип движения физического мира и всеобщей иерархии вещей. Паунд отметил, что Кавальканти вряд ли читал труды епископа из Линкольна, но он знал близкую литературу, в частности Аверроэса и Альберта Великого, и по убеждениям был неоплатоником и эпикурейцем. Паунд замечает также, что Кавальканти необычайно точен в выборе слов и передаче оттенков смысла, но там, где он намеренно темен, не следует пояснять и просветлять смысл, так как это грозит упрощением. Во втором комментарии Паунд разбирает версификационные особенности канцоны, утверждая при этом, что канцона в поэзии — то же, что фуга Баха в музыке и что итальянский одиннадцатисложник ошибочно, по его мнению, переводится на английский язык пятистопным ямбом.
Переводя на русский, я отдавал себе отчет в том, что предлагаемый перевод является переложением переложения или имитацией имитации. К тому же нужно добавить, что Паунд нередко видоизменяет тексты, которые цитирует. Так в конце «Canto XXXVI» он вставляет в письмо папы Климента IV королю Неаполя и Сицилии Карлу I слова: «КАРЛУ, Паршивцу из Анжу…/…то, как вы обращаетесь с людьми, постыдно…» Как справедливо заметила Марджори Перлофф, у Паунда«…текст становится плоскостью лингвистических искажений и противоречий, заставляющих читателя участвовать в стихотворении, как в действе… Паунд сдвигает язык, чтобы создать новые языковые пейзажи». Более того, как далее пишет Перлофф, Паунд нередко сознательно искажает латынь, либо дает не совсем верный перевод, или переводит на современный разговорный английский, едва ли не слэнг, а нередко помещает рядом все три текста — латынь, итальянский и английский — параллельно, причем подтексты, а нередко и основные значения, различаются. Когда же Паунду нужно усилить мысль или образ, он, напротив, дает абсолютно точные цитаты и переводы из них