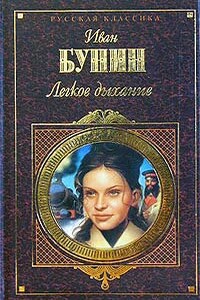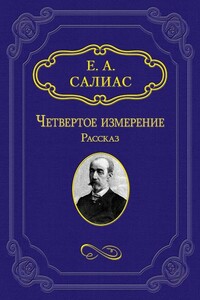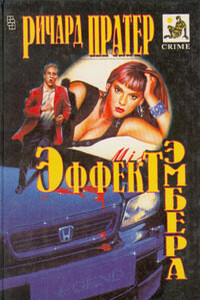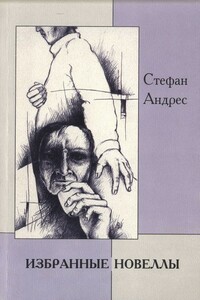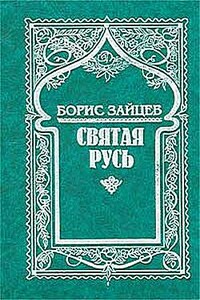С высоты пятого этажа вижу на тротуаре Элли. Держа в руке сумку — откуда выглядывает зеленый хвостик морковки, всякое другое добро — она разговаривает со старушкой. Старушка худенькая, невысокая. Обе оживлены, иногда притрагиваются друг к другу рукой ласково.
Все это знакомо. Так полагается. Элли держит путь домой из утреннего странствия — священного обряда хозяек, каторги малой жизни.
Вокруг расстилаются наши края — черепичные крыши, сараи, склады, дома. Лишь вдали на горизонте, в сизо-голубоватом тумане видится другой мир: две башни Сан Сюльпис, еще дальше тоже две, страшные древностью своей — Нотр Дам. Кое-где пятна зелени, какой-то дальний подъем, там на закате ослепительно блестит иногда стекло. Мы же — преддверие разных заводов, мастерских, угольных складов. Мы второй сорт, пригород.
Сейчас мягко загудит подъемник, хлопнет дверь его, Элли со своей добычей водворится восвояси.
— С кем это ты разговаривала на улице?
— А это мадам Брошэ, милейший человек. Ей девяносто два года. Я её очень люблю. Она меня тоже.
Когда идешь с Элли в наших краях, неведомые типы приветствуют ее — бабки, лавочники, дети. Иногда определяют: «dame russe du cinquième étage».[1] Я тоже «du cinquième», но я просто инородное тело.
— Мадам Брошэ живет тут за углом, у нее свой домик, и она совсем одна. Совершенно. Я ее спрашиваю: «Мадам Брошэ, вам не скучно одной?» А она отвечает, знаешь, как тут всегда: «Non, ma pauvre dame».[2] Так полагается уж «pauvre dame» — и прачка, и торговка скажет, если сочувствуют. Мне, говорит, не может быть скучно, потому что «le bon Dieu est toujours avec moi».[3]
— Католическая бабка?
— Ну, понятно. Все меня расспрашивала, какая у нас вера. Очень довольна, что мы во Христа верим и почитаем Деву Марию.
Таково утреннее странствие Элли. Кроме свиной котлетки, моркови, апельсинов, вина, приносит она разные вести вроде малой областной газеты. А потом у ней кухня: газ, плита, готовка. Это начало дня, он начинается, ему все равно, радостно ли тебе жить, или грустно. Он для всех один, будь ты свой, здешний, или пришлец, как мы. Он светел, равнодушен.
Темный провал отделяет его от дня следующего. Но и тот приходит. Портьеры еще задернуты, лень взглянуть на часы. Вдруг начинаешь слушать как бы щебетание. Сперва мало, отдельной струйкой. Потом струйки сливаются — нечто вроде журчанья — небольшая, негромкая речка течет за окном, по улице, звуковая речка справа налево.
Девять часов. Дети пошли в школу. Значит, взрослым неловко валяться. Все-таки спешить некуда. Слава Богу, все школы, диктанты, задачи, курьеры в мифической дали. Было время, десятилетний человек напяливал в утренних потемках длинное пальто с серебряными пуговицами, форменную фуражку. За спиной ранец, в сердце тоска, в голове латинские предлоги. Девятнадцатый век! Калуга.
Если сейчас выглянуть, то увидишь малых французских граждан, иногда с мамашами. Граждане волокут в руках сумки с книгами — не за спиной в ранцах, как носили вы, — сумки полны премудростями, тащатся чуть не по земле. Тяжело! Граждане в большинстве хилые, голые ножки с неважнецкими коленками, порода не крепкая. Да и откуда быть крепкой? Отцы, деды, может быть прадеды, бабушки этих Жаков, Пьеретт, Алэнов все со здешних Рено, Сальмсонов, с маленьких фабричек никому не известных. Наш край выводит свое племя — в трудах, серости, некрасоте. На улице семь бистро. И отцы, деды путников этих немало утешались у стоек — до войны сизым абсентом, после желтым Перно. Да и чем другим, собственно, было утешаться? Потомство же развели слабоватое.
Дети вольются в большой угловой дом, прогрессивные учителя, правнуки флоберовского Омэ, будут обучать их там вещам бесспорным. В половине пятого, на перекрестке вблизи школы восстанет лик власти: хранитель Дениз, Жюлей и Жаков, насытившихся наукой. Он строго раскидывает руки. Движение останавливается. Автомобили ждут, мотоциклисты замирают — царство детей. И шумящим потоком, на ходу давая подзатыльники, подставляя ножку, хохоча, растекаются они по переулкам, прочь от уродливой своей школы, сложенной неизвестным строителем из серых камней (нечем прославить ему здесь свое имя).
Дети будут обычно проводить вечер, ночью спать крепко, возрастать, меняться, на глазах наших проходить разное, от весенних сияний первого причастия, преддверия венчаний, до самых свадьб, живого обручения живому.
Наши края беззащитны. Что можем мы предъявить прекрасного, просто изящного? Нотр Дам, Сан Сюльпис лишь вдали видны из моего окна. А свое — фабричные трубы, заводики, склады, кое-где пустыри да зелень. Аллея платанов — единственная заступница наша. Да еще кладбище, тоже в платанах. Из окна моего в нем белеют памятники. В общем же: на чем глазу остановиться? Семь бистро? Уголок зоны с лачужками? Мелкие лавочки?
— Лишь в Австралии видал я столь некрасивую улицу, — сказал двадцать лет назад о наших местах поэт.
Что возразить ему? Он объездил весь мир. Значит, только в Австралии. Возможно, что и хватил, ближе нашлось бы, просто здесь же в Париже. Но поди, разговаривай с ним. Высокомерно сказал. С ним самим позже поговорила жизнь. И горестно. Не у нас, а в другом захолустье парижском, не лучше нашего, прожил он последние свои годы. Все увидел, без всякой Австралии, и там же скончался.