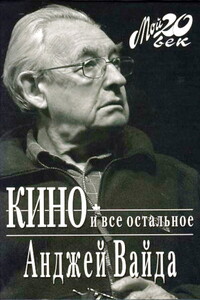Старый фильм. Белые-белые снега, черные разрывы снарядов. В короткую между боями передышку на краю леса расположились солдаты. Слушают песню:
Ночь темна. Не видна в небе луна.
Поет прибывшая на фронт актриса — героиня фильма. Солдаты в касках, задумчивые лица, грустные, словно завороженные глаза. Тишина вокруг.
Тихо и в самом зале. Слышны лишь голос актрисы да шорохи, которые издает старая, теперь уже чуть ли не тридцатилетней давности лента. Актриса поет:
Знаю я: у окна старая мать,
Поджидая меня, будет скучать.
Где, на каком фронте впервые услыхал я эту песню?
Как ни мало появлялось в войну новых кинокартин, даже их не всегда удавалось посмотреть солдату — не-досуг было. И не из фильма, вовсе не из него узнал я ту песню — услышал от друга своего Сергея Крутилина.
Давно это было, но как сейчас помню: каждый раз, когда наступало затишье, и мы, грязные и усталые устраивались на нарах свежевырытой землянки, Сергей вполголоса запевал. А потом долго сидел, склонившись над листком бумаги, и, как на уроке чистописания, аккуратным почерком выводил письмо в далекий городок Белебей своей матери — Крутилиной Татьяне Герасимовне.
Мы с Сергеем немало прошли по фронтовым дорогам. Дружили, ели из одного котелка, лежали в одном госпитале. Однажды в разоренной фашистами деревушке на Брянщине, в покинутом жильцами доме, где останавливались на постой, обнаружили мы старенький томик стихов тезки Крутилина — Сергея Есенина. И как бы открыли для себя заново знаменитого поэта.
До войны Есенина почти не изучали. И мы, довоенные школяры, мало что знали о нем.
А тут — «Клен ты мой опавший...»
Томик Есенина мы таскали с Крутилиным поочередно в своих вещевых мешках, поочередно читали и перечитывали на привалах. Из всех стихотворений Сергею больше всего нравилось, помнится, одно, посвященное матери. О том, как часто выходит она в своем ветхом, старомодном шушуне на дорогу, как ждет, не может дождаться запропавшего где-то сына...
И читали, и пели мы, впрочем, довольно редко. Мы были солдатами пехоты, пулеметчиками, и главное, что делали тогда — дрались с врагом, стараясь, чтобы каждая пуля достигла цели.
Война есть война. Не все дошли до победы. Где-то на фронтовых дорогах затерялся и след Сергея Крутилина. Вернулся ли он после войны? Довелось ли ему после долгих лет разлуки ступить на порог родного дома? Не знаю.
А я по сей день вижу его усталое лицо, помню его сидящим в землянке, склонившимся над листком бумаги.
Что ни говори, а удивительная, чудодейственная все-таки сила — песня! Не живет она сама по себе, не существует в отдельности: стоит только ее услышать, как сразу же у каждого наплывают воспоминания. У каждого свои.
Так вот и ожил в моей памяти еще один однополчанин — веселый, светловолосый ярославский парень Иван Червонцев. Нет, ничем не походил он на Крутилина: песен, кроме как в строю, никогда не певал, стихов особенно не любил, предпочитал во всех случаях жизни обходиться «презренной» прозой. Но зато уж рассказчик был! — далеко не в каждом взводе и даже не в каждой роте другого такого сыщешь! Не говорил, а так, бывало, и сыпал будто не словами, а червонным золотом — недаром фамилию носил такую звонкую.
Весь взвод наш замертво грохался на землю, надорвав от хохота животы, когда Червонцев со свойственным ему простодушным юмором начинал живописать какой-нибудь эпизод из жизни. Даже о самой войне, ее тяготах и злоключениях умел он рассказывать по-своему. Спросите как?
Служил Иван у нас поваром. Харч у солдат в войну известный был: зимой — восемьсот, летом — семьсот граммов хлеба плюс не очень-то жирный приварок.
Только и «повеселишься», отведешь душеньку, когда попадешь в наряд на кухню. Но стремились туда не только подзаправиться, а чтобы в сотый уже, наверное, раз послушать от первого лица героическую, пересыпанную прибаутками историю, как веселый, неунывающий солдат Червонцев ходил на «фердинанда».
Дело было, кажется, под Кировоградом, в степи. «Фердинанд», лязгая гусеницами, пер на Червонцева, а Червонцев со связкой гранат — баш на баш — полз на «фердинанда». До фашистского самоходного орудия оставалось совсем уже немного. Тут-то, по словам Ивана, и началось:
— «Фердинанд» ка-а-ак плюнет! Болванкой в мою сторону! Я со страху лицом в землю, зарылся на пол-ярда! Ну, думаю, конец. Лежу — не дышу...
Надо сказать, английское слово «ярд» в 1944 году довольно часто мелькало на страницах газет. Ярд — мера длины, чуть меньше метра. Сто ярдов... Сто пятьдесят... Еще сто... Так наступали на Западе. Открывшие второй фронт в Европе, союзники торопились не очень-то. Из их боевого лексикона и позаимствовал Червонцев приглянувшееся «стратегическое» словечко.
— Лежу — не дышу. Живой ли, мертвый, сам точно определить не могу. Болванка летит — тоска берет: ну, как она сослепу, сдуру прямо по мне шарахнет? Душа в пятках где-то. Все присказки, какие знал, перебираю: костерю того «фердинанда» на чем свет стоит...
Червонцев неторопливыми движениями пальцев, оттопырив мизинцы, сворачивал из клочка газеты очередную самокрутку. Прищурив один глаз, сладко затягивался махорочным дымом и снова давал волю своему красноречию:
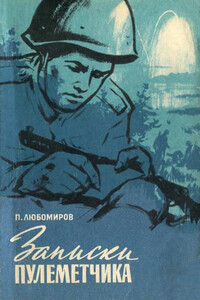
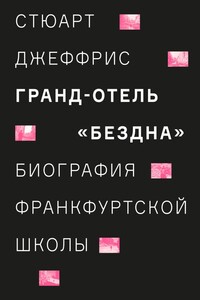




![Солнце любви [Киноновелла]](/storage/book-covers/c2/c2986c4d11a0b71012c14c245a49c143a9d137d6.jpg)