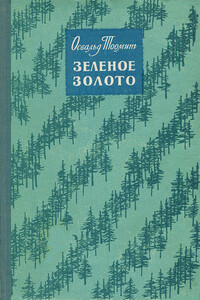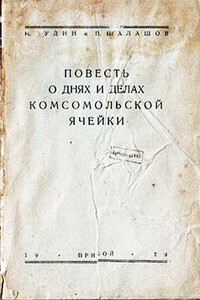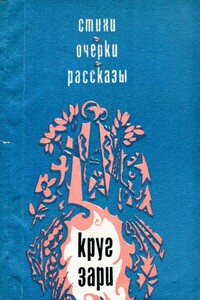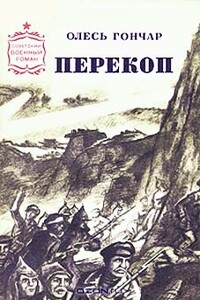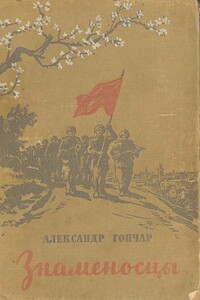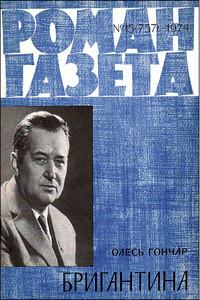Олесь Гончар
ЗА МИГ СЧАСТЬЯ
В тропическом городе Рангуне, где молодые смуглолицые солдаты стоят с автоматами на постах в своей зеленоватой, цвета джунглей одежде, в городе золотых пагодхрамов, устремившихся в небо стогами оранжевого жатвенного блеска, в городе, над которым ночь опускается очень рано и в сумраке дворца, словно выхваченного из сказок Шехерозады, вдруг промелькнет лицо с прекрасным профилем камеи, а на сцене, сверкающей восточным великолепием пластики, руки танцовщиц поют, ткут песнь любви под звуки удивительного инструмента (название которого так и осталось тебе неизвестным!),-в тот знойный, тропически влажный рангунский вечер, полный волшебных мелодий, красоты и безудержных грез, мне вспомнилась почему-то эта давнишняя история, история иных широт...
Лето было, первое послевоенное лето, виноградники зеленели, и впервые снопы поблескивали на полях.
Ослепительный день, жнивье светится, и по степной дороге, ведущей от нашего лагеря до ближайшего местечка, рысцой идут кони, артиллерийские наши кони. Только не пушку тянут они за собой, не в артиллерию впряжены, а в обычную бочку-водовозку. Высоко на ней в пилотке набекрень, в медалях во всю грудь восседает Диденко Сашко, артиллерист. О демобилизации думает хлопец, не иначе. Все мы в эти дни только тем и живем, что скоро домой, а там каждого из нас ждет любовь. Того своя, этого своя, а кого еще и просто неведомая, туманная. Насвистывает, напевает бравый солдат, небрежно выпустив на лоб прядь пшеничных волос. Дунайское небо шелковистой голубизной переливается, лето горит, полыхает, пьянит хлопца.
Какое же раздолье вокруг! Во время войны, когда доводилось ему очутиться где-нибудь в степи либо в горах скалистой ночью, в ненастье ли, в метель, не раз подмывало его крикнуть, аукнуть, гогокпуть, да так, чтобы эхо прокатилось по всем Карпатам. Но тогда нельзя было. В те годы люди жили таясь, настороженно, молчком. Передний край шума не любит. Зато сейчас Диденко, выехав за пределы лагеря, волон горланить во всю мочь.
- Го-го-го-го-о-о-о!
- Поешь? - смеясь, спрашивает встречный водовоз из соседнего полка.
- А что, плохо?
- Да нет, не плохо. Точь-в-точь как волк в степи...
- Давай вместе!
- Давай!
Теперь уже в два голоса.
- Го-го-го-го! Го-го-о-о! - звучит, разносится по полям, пока друзья и не разъедутся, я жнецы издали, выпрямившись, в веселом недоумении поглядывают на шлях.
Никто но откликается на Диденково гоготанье.
А хмель солнца будоражит душу, пьянит, и в голову лезет всякое такое, что приходилось не раз слышать: про любовь фронтовую, про знакомства в медсанбате, а то и с местными грешницами - везет же людям! А ему - что ему выпадало! Пушку одну только и знал в жизни, с нею прошел полсвета, сколько грязищи перемесил! Выше туч с нею поднимался, плацдармы держал, за пушечными боями на девчат некогда было и оглянуться. И вот теперь он въезжает в пылающее зноем лето на своей водовозке, изжаждавшийся, одинокий!
Жнивье, свежие, точно литые, клади из снопов, кругом снопы и снопы все отливает золотом, все сверкает под палящими лучами жатвенного солнца.
Только одна кладь еще не завершена, не увенчана короной. Вдруг что-то как живое пламя, ярко-красное, быстрое,- мелькнуло и исчезло позади этого золотого сооружения. И вот уже показались смуглые руки, завершающие свой снопастый труд,- ставят шапкой на кладь последний сноп, и он так весело, так задиристо кверху торчит!
Показалась из-за клади и жница; поправляя сноп, она поглядывает на шлях, улыбается солдату. Красная, как жар, кофтенка полыхает на ней. Волосы темные свободно спадают на плечи. Ноги загорелые блестят. Взяв в руки кувшин, жница запрокидывает голову и пьет, но и тогда она, кажется, не перестает одним глазком весело косить на дорогу. Опустив кувшин, она смело улыбается солдату, словно подзуживает, подзывает к себе этой улыбкой: "Иди, напою и тебя..."
И еще две или три жницы появляются около ее копны и давай подшучивать, давай поддразнивать солдата. Хохочут, показывают что-то жестами, обольщают, манят намеками...
Но тех он как будто и не замечает, впился взглядом лишь в ту одну, что стоит между ними и не участвует в их проделках, в ту, что улыбкой позвала его первая...
А проказницы все не унимаются, визжат, вертят подолами: что ты, мол, за герой, если боишься полюбезничать!..
- Тпру-у!
Бросает вожжи, соскакивает, и уже трещит под сапогами жесткая стерня, бросаются с лукавым испугом и смехом врассыпную жницы, только она остается па месте - неподвижно стоит под своим тугим золотым снопом.
И хотя она первая послала ему улыбку на дорогу и солдат побежал сюда, тоже настроенный па веселье, на шалость, но сейчас уже не было улыбки на ее устах, не было игривости в ее взгляде. Было нечто иное. Что-то совсем другое теперь светилось ил глубины ее погрустневших, карим солнцем налитых очей... Лх, эти очи, в которых затаилась бездна страсти и нежности, и эта кофточка алая, ветхая, что расползается на смуглом теле, и эти орошенные жатвенным потом, полуоткрытые, полуоголенные перси...
Ничто в ней не боялось его, все как будто только и ждало этого мгновения, этой встречи с ним, и в доверии своем становилось ему родным.